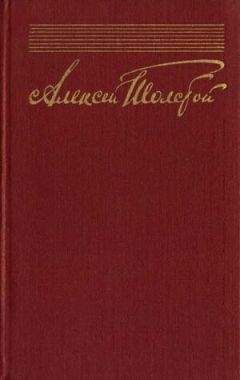Париж начал танцевать. Париж решил отпраздновать танцами конец войны, - забыть в танцах, в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждых глазах. Танцевали два года, покуда не отнялись ноги, покуда всем уже стало ясно, что война вовсе не окончена, но лишь прервана на какой-то срок, что ничего хорошего не случилось, что тогда, в день праздника Разоружения, нужно было не начинать танцевать, но предпринять что-то более серьезное.
Оказалось: во Франции 1 1/2 миллиона убитых, цвет нации срезан. У Франции 350 миллиардов франков внешнего долга. Нация вымирает: приблизительно ежегодно во Франции вымирает население одного уездного города. Северные провинции разорены дотла. Растет дороговизна. Перспективы будущего страшны и неопределенны. Немцы долгов не платят. Ни побед, ни богатства, - война принесла уныние, опустошение, безнадежность, нищету.
На востоке бушевала революция. Как не соблазниться! И соблазнились. 1 мая 1920 года было тревожным днем. Правительство и правопорядок висели на волоске.
Брожение было среди рабочих, среди деклассированных элементов города (из деревень в Париж тянулась молодежь, привлеченная огнями бульваров, жаждой наслаждения). Среди французской интеллигенции было увлечение русской революцией, великолепной романтикой мирового пожара, величием трагических актов и грандиозных перспектив. Было хорошим вкусом называть себя "большевиком".
Тридцать пять тысяч полицейских сержантов затушили разгоравшийся пожар. Французская деревня была настроена реакционно и свирепо. Она хотела покоя, порядка и высоких цен на пищевые продукты. Войска (преимущественно - крестьянские) круто кое-где расправились с рабочими, и брожение утихло. Французские рабочие, - единственный класс, не проливавший крови на войне, - были в значительной мере избалованы высокими окладами. Они сдались. Революция, нависшая тучей над Францией, громыхнула и ушла, не пролив ни капли влаги.
Вспоминаю третий день. Весь Париж с утра высыпал на улицы. На бульварах, на площадях, на мостах шевелилась икра человеческих голов. Остановились все надземные пути сообщения. Три миллиона человек глядели на верхушку Эйфелевой башни, на небо, на крыши семиэтажного здания редакции "Матен".
Было неописуемое волнение ожидания. Что это - мобилизация? Или летят на землю жители Марса? Нет, нет!
Ожидали: красное или белое пламя вспыхнет на вершине Эйфелевой башни? Поднялись над городом гигантские монопланы. Красные или белые огни начнут вспыхивать за хвостами монопланов?
Это был день, когда англичанин Демпси бил косым ударом снизу в челюсть француза Карпантье. Белый огонь загорелся на Эйфелевой башне. Радио, меньше чем в 30 секунд, передало из Нью-Йорка весть о том, что Карпантье упал на третьем раунде: у него лопнул череп. Удар в морду громом отдался по всей планете. Три миллиона французов сняли шляпы. Это был день национального траура.
Современный Париж беспечно, легко, без остатка разменивал великую тысячелетнюю культуру на дрянные пустяки. Наступало царство людей, не помнящих родства. Обыватели города жаждали только хорошего пищеварения и дешевого развлечения. Мелькание киноэкранов, зажигающиеся в небе огненные буквы, алкоголь и получасовая любовь оглушали тоску опустошенных душ. И вот, - музеи и библиотеки стоят, как гигантские склепы. Книгой или созерцанием красоты не набьешь желудка. Театры перестраиваются под это царство победителей, под вкус опустошенных душ. В театрах - чепуха и ерунда: выставки головокружительных туалетов, пьесы - сплетни: уныло, неостроумно, нерадостно. Актеры играют, не гримируясь, не меняя даже домашнего пиджака. Драматург и актер Саша Гитри поставил своего сочинения пьесу, где, сохраняя в точности даже имена, рассказал, известную всему Парижу, свою семейную историйку: как он изменил жене, как жена ему изменила, как они помирились. Два акта пьесы - в кровати. Париж хихикал и смаковал этот мусор с истинным удовольствием.
Директор театра "Старая голубятня", Коппо, на банкете в своем театре сказал: "Французский театр безнадежно гибнет, во всем мире факел драматического искусства горит только в Москве". Для француза это было неожиданно и смело.
Живопись - та же пыль, уныние и безнадежность. На выставках тысячи никому не нужных, до головной боли унылых полотен. Недурно работают беспредметники по заказам Америки для миллиардерских салонов, где требуются такие картины, чтобы салонный гость глядел на них, вылупив глаза от мистического недоумения.
Интеллигенция, умная, изумительная французская интеллигенция ушла за портьеры от трескотни улицы. Культура гибнет. Влага бытия высыхает.
На ежегодном карнавале Парижа в 1921 году вслед за обычной колесницей Королевы Королев везли огромное чучело Чаплина, в котелке, с усиками, с тросточкой. Вот знамя века, истинный король послевоенной культуры: мужчина в штанах винтом, умеющий смешно ходить, быстро вертеть тросточкой и равнодушно валиться в корыто с тестом.
Что - взамен всех чудовищных жертв? Унылый ужас ожидания новых войн. Власть мошенников и воров, лихо поживившихся на войне. Духовная анархия. Растет преступность. Когда в багажном отделении на вокзале начинает вонять корзина, - это явление бытовое, - значит, в корзине разрезанный на куски консьерж или опостылевшая любовница. Газеты полны описаниями кошмарных судебных процессов. Помню, в какой-то газетке хроникер, не зная уже, чем еще поразить читателя, восклицает: "Кошмарная подробность, на убийце были - очки". Париж жадно любит казни. Когда казнили знаменитого Ландрю, сжегшего в разное время у себя на даче 12 женщин, - весь блестящий Париж с вечера расположился на площади перед тюрьмой. Раскинули столики. Играла музыка. Устроили летучие кабаре. Пела знаменитая Мистангет, стоя в своем автомобиле. Было страшно весело, - цветы, туалеты, прелестные женщины. В три часа начали ставить гильотину. В пять - распахнулась дверь тюрьмы, появился мсье Демблер, палач Франции, за ним помощники тащили на помост Ландрю. В 45 секунд работа была окончена. Демблер поднял и показал толпе голову преступника. Рукоплескания. Демблер бросил голову в корзину, снял и бросил туда же белые перчатки. Приподнял цилиндр и уехал. Дьявольски шикарно.
Великолепный Париж, прекраснейший из городов мира, наполнен сумасшедшими. Я утверждаю это: люди, отбросившие великие сокровища и облепившие жадно помойку жизни, - безумны. Такою Франция обречена на гибель. Можно ее оттянуть, но не отвратить. Эту гибель чувствуешь плечами, - свинцовую тяжесть неизбежности.
Я знавал в Париже одного молодого человека. С 1915 года основным его занятием было уклонение от воинской повинности. Он был всем, чем только можно быть молодому человеку, во времена гражданской войны: дезертиром, агентом контрразведки, журналистом, спекулянтом, шулером. Он был циничен, талантлив и неглуп. В 19-м году он попал, наконец, в Париж. Душа его была разъедена. В Париже он сделался писателем. Ему было наплевать на все, - с почтительной иронией он говорил только о деньгах. Денег у него не было. От скуки и омерзения он устроил "театр для себя", - то есть сидя в редакции "Общего дела" сочинял головокружительную, невероятную информацию, телеграммы с мест, из России. Он стирал с лица земли целые губернии, поднимал восстания, сжигал города, писал некрологи. Бурцев печатал всю эту чушь. Затем молодой человек ходил по знакомым и наслаждался своей работой. Эмигрантский Париж ежедневно потрясался до самых основ чудовищной фантазией веселого молодого человека. Французы перепечатывали эти телеграммы и, вытаскивая листы русских военных займов, любовно поглядывали на купоны.
Так рождались слухи. Но какие! Но какая в них была мгновенная уверенность! Но какое потрясающее разочарование! Так медленно сходила с ума русская эмиграция, живущая среди миражей парижских пустынь.
Ее средина с утра укладывала чемоданы, к вечеру зарывалась с отчаяния головой в подушки. Ее левый фланг безнадежно сдавал позиции одну за другой, задыхался, как рыба на мели. Ее правый фланг составлял черные списки. С каждым годом они увеличивались: списки будущих повешенных. Жуткие списки. С 22-го года в Париже начал функционировать двор русского императора. Начали раздавать титулы, ордена, устраивать выходы и приемы. Безземельный император пошел писать послания к народу русскому: "Раскайтесь, и мы, божьей милостью, помня прежние заслуги, простим и помилуем вас!.."
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Я уезжаю с семьей на родину, навсегда. Если здесь, за границей, есть люди, которым я близок, - мои слова - к вам. Я еду на радость? О нет: России предстоят не легкие времена. Снова ее охватывает круговая волна ненависти. Враждебный ей мир вооружается резиновыми палками.
Мир этот не сошел с ума. Мир поумнел за последние пять лет. Теперь даже юный спекулянт в роговых очках понимает, что есть три сферы жизни: 1) Америка, где люди ходят по шею в долларах, 2) Европа, где о долларах мечтают в горячечных сновидениях, и 3) Россия, дикая, сумасшедшая страна, где противно здравому смыслу утверждают: "Хорошо то, что истинно".