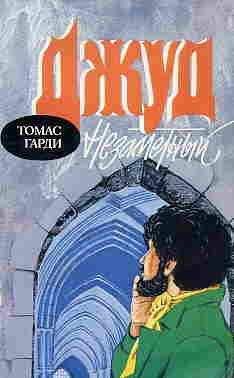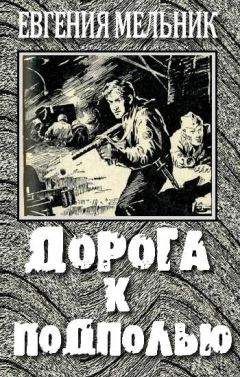— Чуть подальше, там, где отходит дорога на Фенворт и стоит придорожный столб. Когда-то там была виселица, она тоже связана с нашим прошлым. Ну да хватит об этом.
В тот же вечер, едва спустились сумерки, Джуд вышел от своей двоюродной бабки, сказав, что идет домой. Но, достигнув открытого плоскогорья, он зашагал по нему, пока не добрался до большого круглого пруда. Мороз держался, хотя и не был особенно сильным, над головой медленно зажигались и мерцали крупные звезды. Джуд ступил на кромку льда сперва одной ногой, потом другой; лед затрещал под его тяжестью, но это его не остановило. Он продолжал идти к середине пруда под громкий треск льда. На самой середине он огляделся вокруг и подпрыгнул. Снова раздался треск, но лед не проломился. Он подпрыгнул еще раз — лед перестал трещать. Джуд пошел обратно и выбрался на берег.
Чудно, подумал он. Зачем ему сохраняется жизнь? Должно быть, для самоубийства он недостаточно важная особа. Миролюбиво настроенная смерть гнушается им и не желает принять его в число своих подданных.
Так не придумать ли ему что-либо менее благородное, нежели самоуничтожение? Что-либо не столь возвышенное, соответствующее его теперешнему унизительному, положению? Он может напиться. Ну, разумеется, и как это он забыл? Пьянство — самое привычное занятие всех отчаявшихся и ничтожных. Теперь-то он начинает понимать, почему некоторые ходят по кабакам. Спустившись по северному склону холма, он вышел к невзрачному трактиру. Когда он вошел и сел, он увидел на стене картину, изображавшую Самсона и Далилу, и вспомнил, что именно сюда заходил с Арабеллой в тот первый воскресный вечер, когда начал за ней ухаживать. Он спросил виски и жадно пил час, если не больше.
Поздно вечером он, шатаясь, брел домой; всю его угнетенность как рукой сняло, голова была еще довольно ясная. Он громко расхохотался, представив себе, какой прием окажет ему Арабелла, когда он заявится к ней в таком виде. Когда он вошел, дом был погружен во мрак и, поскольку он нетвердо держался на ногах, ему не сразу удалось зажечь лампу. Он обнаружил следы разделки туши, клочья мяса и сала, но самих окороков нигде не было видно. На внутренней стороне старого конверта; пришпиленного к занавеске над очагом, рукой его жены было написано:
"Ушла к друзьям. Не вернусь".
На следующий день Джуд остался с утра дома. Он отослал свиные кости в Элфредстон, выгреб грязь из дома, потом запер дверь и, спрятав ключ в условленное место на случай, если бы она вернулась, поспешил в Элфредстон на работу.
Когда вечером он притащился домой, то обнаружил, что Арабелла не приходила. Следующие два дня тоже. Потом от нее пришло письмо.
Она откровенно призналась, что он ей надоел. Он просто зануда, к тому же ее не устраивает жизнь, которую он ведет. Надеяться на то, что он исправится или исправит ее, не приходится. Дальше она сообщала, что, как ему известно, ее родители уже давно подумывали о том, чтобы эмигрировать в Австралию, так как разводить свиней стало теперь невыгодно. Наконец они решили ехать, и она собирается с ними, если он не возражает. У такой женщины, как она, там будет больше возможностей, чем в этой дурацкой стране.
Джуд ответил, что у него нет ни малейших возражений против ее отъезда. Он считает это разумным, раз ей захотелось уехать, и, быть может, это будет на пользу им обоим. В конверт с письмом он вложил деньги, вырученные от продажи свиньи, прибавив к ним то немногое, что у него было сверх этого.
С этого дня он ничего о ней не слышал, разве что случайно, хотя отец ее и домочадцы уехали не сразу, дожидаясь распродажи недвижимости и прочего имущества. Узнав, что в доме Доннов назначен аукцион, Джуд нагрузил повозку своей собственной домашней утварью и отослал Арабелле в дом отца, чтобы она могла выбрать из этого, что захочет, и продать заодно с остальными вещами.
Затем он переселился в Элфредстон и как-то в витрине одной лавки увидел маленькое объявление, возвещавшее о распродаже имущества его тестя. Джуд запомнил число и весь этот день держался подальше от того места, так что и не заметил, как благодаря аукциону оживилось движение на дороге, ведущей из Элфредстона на юг. Несколько дней спустя он зашел в захламленную лавчонку старьевщика на главной улице города и в глубине ее среди разного хлама, включавшего набор кастрюле, складную раму для сушки белья, скалку, медный подсвечник, настенное зеркало и прочие вещи, очевидно, только что попавшие сюда с распродажи, заметил маленькую фотографию в рамке, которая оказалась его собственным портретом.
Эту фотографию он сделал специально в подарок Арабелле и заказал для нее у местного мастера кленовую рамку, а затем вручил ей в день свадьбы, как и полагается. На обороте и сейчас можно было прочитать: "Арабелле от Джуда" — и дату. Должно быть, она продала ее вместе с остальными вещами на аукционе.
— Это лишь малая часть добра, что досталось мне на распродаже имущества в доме на дороге в Мэригрин, — сказал хозяин лавки, видя, что Джуд рассматривает сваленные в кучу вещи, и не замечая, что на фотографии изображен сам Джуд. — Рамка еще послужит, если вынуть фотографию. За шиллинг можете взять ее.
Значит, она продала его портрет и подарок, — это послужило для Джуда немым и невольным доказательством того, что в жене его окончательно угасло всякое нежное чувство к нему, и тем завершающим толчком, какой потребовался, чтобы уничтожить и его чувство к ней. Он уплатил шиллинг, забрал фотографию и, вернувшись домой, сжег ее вместе с рамкой.
Дня два или три спустя он узнал, что Арабелла и ее родители отбыли. Перед тем он послал ей записку с предложением встретиться и попрощаться, как положено, но она ответила, что лучше не стоит, раз уж она решила уехать, и, возможно, она была права. На следующий вечер после их отъезда, отработав у каменщика и поужинав, Джуд вышел из дому и зашагал при свете звезд по слишком хорошо знакомой дороге к нагорью, с которым были связаны самые сильные переживания в его жизни. Казалось, он вновь породнился с ним.
Ему трудно было в себе разобраться. На древней римской дороге он казался себе еще мальчиком, повзрослевшим, быть может, всего на один день по сравнению с тем временем, когда он стоял здесь, на вершине холма, воспламененный мечтой о Кристминстере и науке.
— Я уже взрослый мужчина, — произнес он. — У меня есть жена. Больше того, я достиг следующей ступени зрелости — поссорился с ней, разлюбил ее и разошелся с ней.
Тут он вспомнил, что стоит неподалеку от того места, где, по рассказам, расстались его мать и отец. Еще чуть подальше была та самая вершина, откуда, как он думал, был виден Кристминстер. Совсем рядом у обочины дороги стоял все тот же придорожный столб. Джуд приблизился и скорее нащупал, чем увидел на нем, сколько миль отсюда до города. Ему вспомнилось, как однажды, возвращаясь домой, он с гордостью вырезал своим новым острым резцом на другой стороне столба надпись, воплотившую его устремления. Это было в первую неделю его работы подмастерьем, еще до того, как чуждая ему женщина отвратила его от намеченных целей.
Интересно, можно ли еще разобрать надпись, спросил он себя и, обойдя столб, раздвинул крапиву. При свете спички можно было прочесть то, что он в порыве восторга вырезал так давно:
Туда
Д.Ф.
При виде этой надписи, сохранившейся под укрытием травы и крапивы, в душе его вспыхнула искра былого огня. Разумеется, у него теперь один путь — вперед, через добро и зло… не поддаваясь унынию и скорби, даже если доведется столкнуться с уродствами этого мира! Bene agere et laetari — творить добро весело, — такова была, говорят, философия некоего Спинозы. Но он даже в нынешнее время может назвать ее своей.
Он будет бороться со злой судьбой и осуществит свой первоначальный замысел.
Джуд прошел чуть дальше вперед, и на северо-востоке перед ним открылся горизонт. Там и в самом деле было слабое сияние, легкая светящаяся дымка, видимая только для глаз верующего. Но ему и этого было достаточно. Как только закончится срок его ученья, он отправится в Кристминстер.
Он вернулся домой повеселевшим и помолился богу.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В КРИСТМИНСТЕРЕ
Кроме души своей, нет у него звезды.
Суинберн
Notitiam primosque gradus vicinia fecit;
Tempore crevit amor.
Ovid[4]
Следующий примечательный этап в жизни Джуда совпадает с появлением его на дороге, по которой он шел сквозь сумерки все вперед и вперед, под сенью деревьев, на которых уже трижды сменилась листва с тех пор, как он ухаживал за Арабеллой, а потом разорвал свой неудавшийся брачный союз. Он направлялся в Кристминстер и находился в миле или двух к юго-западу — от города.