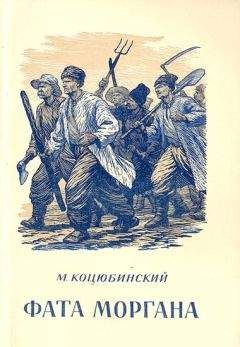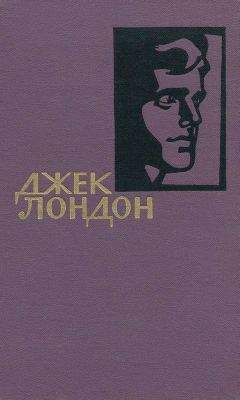В сборне было тесно: свитки так жались к свиткам, что от мокрой одежды валил пар. Вести и слухи, неведомо откуда появившиеся, соединялись в одно, росли на глазах, как тесто в квашне. Сухие бессонные глаза глядели каждому в рот, уши внимательно ловили каждое слово. Что будет? Как будет? Всюду подымается народ, бунтует, хочет чего-то, рабочие бастуют, бросают заводы, чугунка не ходит. Что же им сидеть сложа руки, ждать, чтобы о них кто-нибудь позаботился?
У сборни толпились пришедшие позже и старались попасть в дверь.
— О чем они там кричат? Надо, чтобы все слышали.
— Видите ж — тесно. Не поместятся все...
Когда проходил кто-нибудь из богачей, Мандрыка или Пидпара, те, которые мокли у крыльца, зубоскалили на их счет.
— Заходи, услышишь, как твою землю делят.
— Не слушай, похудеешь с досады.
— Ничего с ним не будет. Бедный работу клянет, а у богача брюхо растет.
— Бедный теряет, богач подбирает.
— Ничего. Все переменится. Доведется и свинье глянуть на небо...
— Как станут смолить.
Мандрыка невесело усмехался и семенил ногами, избегая сборни. Будто забывал, что он староста сельский. Пидпара хмурился и бранился.
Гуща часто где-то пропадал. Возвращался весь в грязи, мокрый, но веселый. Гафийка встречала его за огородом Пидпары.
— На станции был. Бастуют. Уже второй день машина не ходит. Рабочие собрались и советуются. Ну и народ. Надо и нам собирать людей.
— Собирайте. И Прокоп советует.
— Нельзя терять времени.
— А где?
— Может, в лесу, по ту сторону балки.
— Ямищан зовите.
— Позовем всех.
Марко хотел уходить.
— Постой, я что-то покажу...
Гафийка вдруг покраснела, она стояла в нерешительности.
— Что там? Показывай.
Гафийка отвернулась от Гущи и что-то вытащила из-под корсетки.
— Держи.
Он взял за один конец, а она развернула красную китайку[31].
«Земля и вол...»
— Еще не кончила вышивать...
Она застыдилась, даже слезы выступили на глазах.
— Я так... может, понадобится... Марийка распорола новую юбку и вышила тоже, еще лучше...
И вдруг замолчала.
Виноватые глаза несмело искали глаз Марка.
***
Теплый туман стелился по полю и залил балку[32] до краев, так что деревья утопали в нем.[33] Ствол чернел в лесу, или маячил человек, трудно было угадать. Только там, где плечо касалось плеча, или чувствовалось сзади теплое дыхание, люди наверняка знали, что они не одни. Лишь казалось, что из тумана льется в лес живое течение людей, как вода в долину, лава растет и сбивается в кучу.
— Кто там пришел?
— Это мы, ямищане.
И снова текло и мягко шуршало в лесу.
— Кто там?
— Не бойтесь. Свои...
Уже чувствовалось, что и вдалеке так же, как здесь, дышат груди, тело касается тела и что-то живое объединяет с далекими близких, как волна объединяет отдельные капли.
Чиркнет кто спичку, — и на мгновение покажется из тьмы с десяток серых лиц, дрогнет молочный туман и заиграет, как риза в церкви, желтая осенняя ветвь.
— Чего молчат? Нехай говорят...
— Говорите... говорите...
Большое тело колыхалось в тумане, и от края до края одна кровь переливалась в жилах.
Неважно, кто говорил. Только бы услышать что-то такое, что связало бы вместе спутанные мысли, слило надежды в один поток и показало, куда плыть.
Земля!
Тренькнуло слово, как высокая струна, и настроило сердце.
Древнее, знакомое и близкое слово. Это не тот серый жесткий клочок, что как пиявка тянет с человека силы, а сам родит чертополох; это что-то волшебное, пленительное, что издавна манит утомленную душу, переливается, играет на солнце как мечта, как нечто неописуемое, отчего изменилась бы судьба и выше поднялись бы воды жизни вдоль берегов.
Земля — дар божий, как воздух, как солнце...
Земля для всех. А кто ее имеет?
А кто же ее имеет? Пан, богатей...
Есть поле в руках богатых, и есть убогий мужик, ничего не имеет, только руки и ноги... Только свои четыре угла...
В тумане, то тут, то там, как островки, возникали глухие голоса.
«Теперь скажем так: мне нужна земля, потому своей нет и тебе нужна... А пан то видит и нагоняет цену...»
«Не пан нагоняет, а сами бьемся за аренду, потому что ты не возьмешь, так возьмут люди. Никто не хочет с голода погибать — вот и платишь...»
«Все равно погибаешь... Земля не выносит обмолота, голодная не хочет рожать. А что родила, все забрал пан».
«Пропадает твой труд... А на этот год опять идешь к пану, сам себя обманываешь...»
«Страшная явная смерть...»
Слушайте, слушайте! Довольно вам там! Земля принадлежит трудящимся. Кто богатому дал его богатство? Мы, мужики. И откуда сила у него? От нас, мужиков... Деды наши, родители и сами мы всю жизнь работали на пана. Разве мы не заработали себе земли?..
И снова в тумане звучали отдельные разговоры, как задетые струны.
«Подать плати, солдата дай, чтоб нашу землю от врага защищал... А что мне защищать, когда у меня земли нет? Сделай сначала так, чтобы была у меня земля, а потом и бери солдата, как есть что защищать...»
«Разорим насиженные гнезда, как другие делают, выкурим богачей, чтобы не решились более возвращаться, тогда миру[34] свободнее будет, тогда у нас будет земля...»
Панасу Кандзюбе не терпелось. Он уже несколько раз крикнул: «Люди! Христиане», но его не пускали.
— Молчи, мешаешь.
Он лез уже на дерево, тяжелый в своей свитке, неуклюжий, аж хрустели ветви.
— Люди, христиане!
— Кто там говорит?
— А кто его знает...
— Христиане, мы долго терпели. Оно правда, что паны толстобрюхи за людей нас не держат, как львы рычат на мужика; народ разорили, да еще гонятся за нами с солдатами и своими приспешниками всякими. Как за зверем. Но потерпим еще немного. Подождем великой милости и справедливости.
— От кого?
— Знаем! Ждали!
Вздрогнул туман будто и колыхнулось внизу, вот-вот хлынет в берега.
— Нету терпения ! Лопнуло...
Панас сошел уже на землю и виновато оборачивался к соседям.
— Да я что? Я согласен... я на все согласен... Как люди...
— Нашелся мудрый, потерпим, говорит.
— Тише, — пусть говорит, кто начал.
— Говори, Гуща.
Внизу шумело, точно поток в половодье катил по реке камни и рыл берега.
А из тумана, как из облака, плыл голос и падал к людям:
— Вся земля наша, издавна, потому как каждый ком земли, каждый упруг[35] политы потом и кровью трудящихся. Отберем землю, и тогда каждый трудящийся будет иметь хлеба достаточно для себя и для детей.
Вот слово: отберем землю!..
Оно упало средь такой тишины, что слышно было, как мостилась[36] по гнездам птица, или спросонья била крылом на верхушках деревьев.
Отобрать землю!
Эти два слова еще лежали на дне каждого сердца, как спрятанное сокровище, а теперь, вынутые оттуда, стали словно чем-то живым и говорили: пойдем за нами, мы поведем.
Не разрушать и не жечь, а отобрать. Огонь что возьмет, то уже не отдаст. Пойдем и отнимем свое, неправдой взятое от нас и отцов наших. Отберем хлеб свой кровавый, ради роскоши оторванный от голодного рта.
Груди так полно вздохнули, аж лес отозвался.
Большое тело будто разрасталось, распрямляло застоявшиеся ноги, затекшие руки. Почувствовало силу. И благовестило в нем, как колокол на пасху: «Будет земля... Отнимем землю...»
Ту самую землю, что, как мечта далека, только манила, а не давалась в руки, играла перед глазами, как мираж в жару...
Теперь она близко, протяни руку и бери.
И не хотелось расходиться из леса, разрывать на части могучее тело...
***
Неспокойно было в селе. С той ночи, когда собрались в лесу и постановили отобрать господскую землю, прошла целая неделя, а люди колебались. Все напряженно ждали, а чего именно — никто хорошенько не знал. Одни одно говорили, а другие другое,—и эти разговоры плелись, как сеть, без начала и конца. Бастовала чугунка, бастовали рабочие, всюду было глухо, мутно, пусто как-то, и только грачи черной цепью крыльев связывали с остальным миром деревню.
Что-то творилось вокруг. Будто приближалась грозовая туча, а откуда придет, где выпадет град и что побьет — неизвестно. Тяжело, тревожно дышалось всем в эти хмурые дни, и беспокойно проходили длинные осенние ночи. Если бы кто-нибудь крикнул на помощь, раздался б неожиданно набат или прорезали густой воздух ружейные выстрелы, люди выбежали бы из хат и бросились очертя голову друг на друга!
Гафийка не могла спать по ночам. Как только смеркалось, Пидпара запирал дверь в сени, долго пробовал, крепки ли запоры, и, прежде чем ложиться, снимал ружье, клал возле себя топор. Гасили свет, но Гафийка знала, что хозяин не спит. Слыхала, как он беспокойно шевелился на лавке, тяжело сопел, садился и прислушивался. Потом снова ложился и лежал, притаившись, но вдруг вскакивал и шарил по полу рукой, пока не находил топора. Наступала тишина, под лавками пищали мыши, уже перебравшиеся на зиму в хату, да тараканы шелестели по полкам. Но Пидпара не спал. Гафийке казалось, что она видит его открытые глаза, вонзенные в темноту.