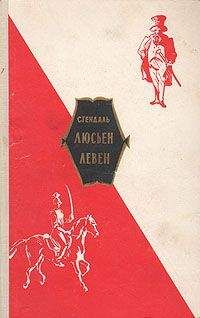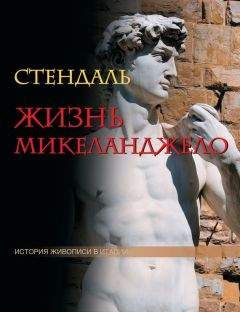Марций, Публий Юлий, Марк. За всех этих господ — Vindex [8], который убьет Маркена».
Письмо это почти целиком уничтожило впечатление гнусности и мерзости, вызванное первым посланием. «Брань на дрянной бумаге, — сказал себе Люсьен, — это анонимное письмо 1780 года, когда в солдаты вербовали на набережных Парижа всяких мошенников и выгнанных лакеев; это тоже анонимное письмо, только датированное 183* годом.
Публий! Vindex! Бедные друзья! Вы были бы правы, если бы вас было сто тысяч; но вас всего две тысячи человек, быть может, рассеянных по всей Франции, и Филото, Малеры, даже Девельруа прикажут на законном основании расстрелять вас, если вы сбросите с себя маску, и их поддержит подавляющее большинство».
Все, что испытал Люсьен со дня приезда в Нанси, было до того мрачно, что за неимением лучшего он занялся этим республиканским посланием. «Было бы лучше, если бы они все уехали в Америку… Но поехал бы я с ними?» Над этим взволновавшим его вопросом Люсьен надолго задумался.
«Нет, — решил он наконец, — к чему обольщать себя надеждой? Пусть тешится этим глупец. Во мне слишком мало суровой доблести, чтобы разделять образ мыслей Vindex'a. Мне стало бы скучно в Америке, среди людей, может быть, безукоризненно справедливых и рассудительных, но грубых и думающих только о долларах. Они вели бы со мной беседы о десяти коровах, которые ближайшей весной должны принести им десять телят, а я предпочитаю говорить о красноречии господина Ламенне или о таланте госпожи Малибран и сравнивать последний с талантом госпожи Паста. Я не могу жить с людьми, не способными мыслить утонченно, как бы они ни были добродетельны. Я сто раз отдал бы предпочтение изысканным нравам какого-нибудь развращенного двора. Вашингтон наскучил бы мне смертельно, но я с большим удовольствием очутился бы в одной гостиной с господином Талейраном. Значит, чувство уважения к самому себе для меня еще не все; я испытываю потребность в развлечениях, возможных только при наличии старой цивилизации.
Но в таком случае, несчастный, мирись с развращенностью правительств, продуктом этой старой цивилизации; только глупец или ребенок может одновременно питать противоположные желания. Мне внушает отвращение скучный здравый смысл американцев. Рассказы о жизни молодого генерала Бонапарта, победителя в битве на Аркольском мосту, вызывают во мне восторг: для меня это Гомер, Тассо и даже в сто раз больше. Американские добрые нравы представляются мне омерзительной пошлостью, и, читая сочинения их выдающихся людей, я испытываю только одно желание: никогда не встречаться с ними в свете. Эта образцовая страна кажется мне торжеством глупой и себялюбивой посредственности, перед которой под страхом гибели надо низкопоклонничать. Будь я крестьянин с капиталом в четыреста луидоров и пятью детьми, несомненно, я приобрел бы и стал возделывать каких-нибудь двести арпанов земли в окрестностях Цинциннати. Но что общего между этим крестьянином и мною? Умел ли я до сих пор заработать стоимость одной сигары?
Эти славные унтер-офицеры не пришли бы в восторг от игры госпожи Паста, им не доставила бы удовольствия беседа с господином Талейраном — они больше всего хотят стать ротмистрами. Они воображают, что в этом счастье. Действительно, если бы речь шла лишь о том, чтобы послужить родине, они, пожалуй, на этих местах оказались бы во сто крат достойнее, чем те, кто их занимает: ведь есть немало людей, получивших чин тем же путем, что и я. Они, эти унтер-офицеры, полагают, и не без основания, что республика сделала бы их ротмистрами, и чувствуют, что способны оправдать повышение геройскими поступками. А я; хочу ли я быть ротмистром? Говоря правду, нет.
Значит, я не республиканец; но мне внушает отвращение подлость Малеров и Маркенов. Что же я собою представляю? Не бог весть что, по-видимому. Девельруа сумел бы бросить мне в лицо: «Ты человек, счастливый тем, что получил от отца аккредитив на имя главного сборщика налогов департамента Мерты». Бесспорно, с точки зрения экономической, я стою ниже моих слуг; я чудовищно страдаю с тех пор, как зарабатываю девяносто девять франков в месяц.
Но кого же уважают в свете, с которым я начал знакомиться? Человека, сколотившего капитал в несколько миллионов или купившего газету для того, чтобы его восхваляли в ней восемь или десять лет подряд (не в этом ли заслуга господина де Шатобриана?). Не в том ли заключается высшее счастье обладателя крупного состояния, вроде меня, чтобы прослыть человеком умным у женщин, одаренных умом? Значит, придется ухаживать за женщинами — мне, который с таким презрением относится к любви и в особенности к влюбленному мужчине!
Разве не начал господин де Талейран свою карьеру с того, что сумел удачным словом осадить надменную заносчивость герцогини де Граммон?
За исключением моих бедных одержимых безумием республиканцев, я не вижу ничего такого на свете, к чему стоило бы относиться с уважением: все известные мне почтенные репутации в какой-то мере основаны на шарлатанстве. Республиканцы, быть может, люди помешанные, но по крайней мере не подлецы».
Дальше этого умозаключения Люсьен при всем желании пойти не мог.
Умный человек сказал бы ему: «Поживите немного больше, и все предстанет вам в ином свете. А пока удовлетворитесь — как это ни пошло — сознанием, что вы никому не причиняете вреда. В самом деле, вы слишком мало видели на своем веку, чтобы судить об этих важных вопросах. Подождите и не торопитесь».
Такого советника у Люсьена не было, и он, предоставленный самому себе, блуждал в области туманных догадок.
«Значит, моя репутация будет зависеть от суждения какой-то женщины или сотни женщин хорошего тона? Что может быть смешнее этого! С каким пренебрежением я относился к влюбленному мужчине, к моему кузену Эдгару, ставящему свое счастье и даже уважение к самому себе в зависимость от мнения молодой женщины, которая все утро провела у ***, обсуждая достоинства нового платья или насмехаясь над почтенным человеком, вроде Монжа, только потому, что у него заурядная внешность!
Но, с другой стороны, угождать простолюдинам, как это необходимо делать в Америке, свыше моих сил. Мне нужны изысканные нравы, плоды развращенного правления Людовика Пятнадцатого, а между тем, кто является наиболее примечательным человеком такой эпохи? Какой-нибудь герцог де Ришелье или Лозен, чьи мемуары дают картину жизни тогдашнего общества».
Мысли эти повергли Люсьена в чрезвычайное волнение. Дело шло о том, что он считал своей религией, дело шло о доблести и чести; а, согласно этой его религии, без доблести не было счастья. «Господи! С кем бы мне посоветоваться? Каково мое место с точки зрения действительной ценности человека? Нахожусь ли я в середине списка или в самом конце его?.. А Филото, несмотря на все мое презрение к нему, занимает почетное место, он блестяще сражался в Египте и был награжден Наполеоном, который знал толк в воинской доблести. Что бы ни делал Филото теперь, это за ним останется; ничто не может отнять у него почетной репутации; человека, получившего в Египте из рук Наполеона чин ротмистра».
Этот урок скромности, преподанный Люсьеном самому себе, был серьезен, основателен и отнюдь не легок. Люсьен был тщеславен, и тщеславие это постоянно находило себе, пищу в его превосходном воспитании.
Через несколько, дней после получения анонимных писем Люсьен, проходя по безлюдной улице, встретил двух унтер-офицеров, стройных, в плотно облегавших талию мундирах; оба были одеты очень тщательно и поклонились ему как-то особенно. Люсьен издали поглядел им вслед и вскоре увидел, что они возвращаются как бы нарочно. «Либо я сильно ошибаюсь, либо эти двое не кто иные, как Vindex и Юлий; они из чувства чести вернулись сюда, словно для того, чтобы подписать таким образом свое анонимное письмо. Сегодня стыдно мне, и я хотел бы вывести их из заблуждения. Я уважаю их убеждения; их честолюбие — честолюбие порядочных людей. Но я не могу предпочесть Франции Америку: деньги для меня еще не все, и демократия — вещь слишком суровая для человека моих вкусов и образа мыслей».
Эти размышления о республике на несколько недель отравили существование Люсьену.
Тщеславие, горький плод светского воспитания, было его палачом. Юный, богатый, по внешним данным счастливый, он предавался удовольствиям без всякой пылкости: его можно было принять за молодого протестанта. Лишь в редких случаях он вел себя непринужденно; он считал, что ему необходимо относиться к окружающему с большой осторожностью. «Если ты станешь кидаться на шею женщине, она никогда не будет тебя уважать», — сказал ему как-то отец. Словом, открытая жизнь на людях, доставляющая так мало удовольствия в девятнадцатом веке, внушала ему опасения на каждом шагу. Как большинством его современников, завсегдатаев балкона в театре Буфф, ребяческое тщеславие, постоянная невероятная боязнь погрешить против тысячи мелких условностей, созданных нашей цивилизацией, владели и им, придя на смену пылким стремлениям, обуревавшим сердце юного француза при Карле IX. Он был единственным сыном богача, а обычно требуется немало времени, чтобы загладить этот недостаток, вызывающий зависть у большинства людей.