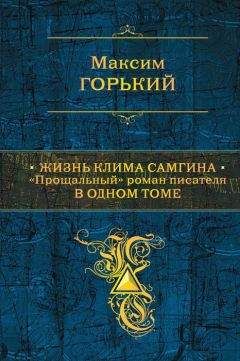Подняв рюмку к носу, он понюхал ее, и лицо его сморщилось в смешной, почти бесформенный мягкий комок, в косые складки жирноватой кожи, кругленькие глаза спрятались, погасли. Самгин второй раз видел эту гримасу на рыхлом, бабьем лице Бердникова, она заставила его подумать:
«Забавный болтун. И, кажется, не глуп».
Его особенно удивляла легкость движений толстяка, легкость его речи. Он даже попытался вспомнить: изображен в русской литературе такой жизнерадостный и комический тип? А Бердников, как-то особенно искусно смазывая редиску маслом, поглощая ее, помахивая пред лицом салфеткой, распевал тонким голоском:
— Люблю почесать язык о премудрости разные! Упрекают нас, русских, что много разговариваем, ну, я как раз не считаю это грехом. Церковь предупреждает: «Во многоглаголании — несть спасения», однако сама-то глаголет неустанно, хотя и пора бы ей видеть, что нас, пестрый народ, глаголы ее не одноцветят, а как раз наоборот. Нам, господин Самгин, есть о чем поговорить. Европейцы не беседуют между собой на темы наши, они уже благоустроены: пьют, едят, любят, утилизируют наше сырье, хлебец наш кушают, живут себе помаленьку, а для разговора выбирают в парламенты соседей своих, которые почестолюбивее, поглупее. Социалистов выкармливают на эту роль, они и разговаривают публично о расширении условий для еды, питья, семейной жизни. О душе в парламентах не разговаривают, это даже и неприлично было бы, и даже смешно. А мы ведь все как раз о душе. Мы — кочевой народ, на полях мысли не так давно у Лаврова с Михайловским паслись, вчерась у Фридриха Ницше, сегодня вот травку Карла Маркса жуем и отрыгаем.
Попов неумело и жестоко резал утку, хрустели кости, из-под ножа выскальзывали куски, он ворчал:
— О, чорт...
Самгин, насыщаясь и внимательно слушая, видел вдали, за стволами деревьев, медленное движение бесконечной вереницы экипажей, в них яркие фигуры нарядных женщин, рядом с ними покачивались всадники на красивых лошадях; над мелким кустарником в сизоватом воздухе плыли головы пешеходов в соломенных шляпах, в котелках, где-то далеко оркестр отчетливо играл «Кармен»; веселая задорная музыка очень гармонировала с гулом голосов, все было приятно пестро, но не резко, все празднично и красиво, как хорошо поставленная опера. И над этим праздником, легко пронзая его шум, извивалась тонкогласая, остренькая речь Бердникова; обсасывая спаржу, он говорил:
— Мы — народище не волевой, а мыслящий, мы не столько стремимся нечто сделать, как хотим что-нибудь выдумать для всеобщего благополучия. Мессианство, оно же как раз и ротозейство. Извините. Воля у нас не воспитывалась, а подавлялась, извне — государством, а изнутри разлагала ее свободная мысль. О народе усердно беспокоились, все спрашивали его: «Ты проснешься ль, исполненный сил?» И вот он проснулся, как мы того желали, и нанес государству огромнейшие убытки, в дребезг, в прах и пепел разорив культурнейшие помещичьи хозяйства.
— У него именьишко сожгли, — равнодушно сказал Попов, разливая шампанское.
— И скот прирезали, — добавил Бердников. — Ну, я однако не жалуюсь. Будучи стоиком, я говорю: «Бей, но — выучи!» Охо-хо! Нуте-кось, выпьемте шампанского за наше здоровье! Я, кроме этого безвредного напитка, ничего не дозволяю себе, ограниченный человек. — Он вылил в свой бокал рюмку коньяка, чокнулся со стаканом Самгина и ласково спросил: — Надоела вам моя болтовня?
— Я слушаю вас с глубоким интересом, — вполне искренно ответил Самгин.
— Однако помалкиваете.
— Неразговорчив.
— Осторожность — хорошее качество, — сказал Бердников, и снова Самгин увидал лицо его комически сморщенным. Затем толстяк неожиданно и как-то беспричинно засмеялся. Смеялся он всем телом, смех ходил в нем волнами, колыхая живот, раздувая шею, щеки, встряхивая толстые бабьи плечи, но смех был почти бесшумен, он всхлипывал где-то в животе, вырываясь из надутых щек и губ глухими булькающими звуками:
— Ппу-бу-бу-бу... Самгин подумал:
«Он должен бы смеяться визгливо».
— Великий мастер празднословия, — лениво, однако с явной досадой сказал Попов, наливая Климу красного вина. — Вы имейте в виду: ему дорого не то, что он говорит, а то — как!
— Слышите? — подхватил Бердников. — В эстеты произвел меня. А то — нигилистом ругает. Однако чем же я виноват, ежели у нас свобода-то мысли именно к празднословию сводится и больше никуда? Нуте-ко, скажите, где у нас свободная-то мысль образцово дана? Чаадаев? Бакунин и Кропоткин? Герцен, Киреевский, Данилевский и другие этого гнезда?
— Это он, кокет, вам товар лицом показывает, вот, дескать, как я толсто начитан, — все так же лениво и уже подразнивая проговорил Попов. Тело Бердникова заколебалось, точно поплыло, наваливаясь на стол, кругленькие глазки зеленовато яростно вспыхнули, он заговорил быстрее, с присвистами и взвизгиваньем:
— Нет, погоди! Ты покажи-ко мне, вместо Бакуниных с Кропоткиными, русских Оуэнов, Фурье, Сен-Симонов, покажи, ну? Ду-шеч-ка, у нас их заменяют блаженненькие Сютаевы, Бондаревы да чудаковатый граф, соблазненный ими по бедности разума его. Ой, нехорошо, дерзко сказал я, — воскликнул он, неумело притворяясь испуганным. — Но вы, господин Самгин, не думайте, я ведь гения не отрицаю, художника всесветного превозношу совокупно со всеми. Однако же полагаю себя вправе сказать: глуп, как гений! И это касается не одного кого-либо, а вообще гения в искусстве...
— Чернышевский... — начал Попов, сердито сдвинув брови.
Тесть махнул рукой на него:
— Отстань! Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворца из него литераторы сделали за мужиколюбие. Я тебе скажу, что бурят Щапов был мыслителем как раз погуще его, да! Есть еще мыслитель — Федоров, но его «Философия общего дела» никому не знакома.
Он всем телом покачнулся к Самгину, усмехаясь, широко обнажив золотые клыки:
— Дорогой... Кирилл Иваныч, старообрядцы мы, заплесневели, мохом обросли! Славянофилы эти наши, народники всякие — старообрядцы всё! И пусть только какой-нибудь Петр, большой или маленький, начнет нас к Европе поворачивать, мы орем: «Антихрист! Блаженны кроткие»...
— Мне кажется, вы недооцениваете событий, которые только что... — заговорил Самгин, но Бердников, схватив его за рукав пиджака, быстро и уже озлобленно продолжал:
— Не выношу кротких! Сделать бы меня всемирным Иродом, я бы как раз объявил поголовное истребление кротких, несчастных и любителей страдания. Не уважаю кротких! Плохо с ними, неспособные они, нечего с ними делать. Не гуманный я человек, я как раз железо произвожу, а — на что оно кроткому? Сказку Толстого о «Трех братьях» помните? На что дураку железо, ежели он обороняться не хочет? Избу кроет соломой, землю пашет сохой, телега у него на деревянном ходу, гвоздей потребляет полфунта в год.
Самгин, немножко захмелев, уставал слушать этот тонкий, резкий голос. Интересно, но — много... Да, вот какие мысли носит в себе такой человек.
«Какой человек?» — спросил себя Клим, но искать ответа не хотелось, а подозрительное его отношение к Бердникову исчезало. Самгин чувствовал себя необычно благодушно, как бы отдыхая после длительного казуистического спора с назойливым противником по гражданскому процессу.
Приятно было наблюдать за деревьями спокойное, парадное движение праздничной толпы по аллее. Люди шли в косых лучах солнца встречу друг другу, как бы хвастливо показывая себя, любуясь друг другом. Музыка, смягченная гулом голосов, сопровождала их лирически ласково. Часто доносился веселый смех, ржание коня, за углом ресторана бойко играли на скрипке, масляно звучала виолончель, женский голос пел «Матчиш», и Попов, свирепо нахмурясь, отбивая такт мохнатым пальцем по стакану, вполголоса, четко выговаривал:
Су вотр жюп бланш
Брийе ля анш...4
Бердников все время пил, подливая в шампанское коньяк, но не пьянел, только голос у него понизился, стал более тусклым, точно отсырев, да вздыхал толстяк все чаще, тяжелей. Он продолжал показывать пестроту словесного своего оперения, но уже менее весело и слишком явно стараясь рассмешить.
Самгину подумалось, что настал момент, когда можно бы заговорить с Бердниковым о Марине, но мешал Попов, — в его настроении было что-то напряженное, подстерегающее, можно было думать, что он намерен затеять какой-то деловой разговор, а Бердников не хочет этого, потому и говорит так много, почти непрерывно. Вот Попов угрюмо пробормотал что-то о безответственности, — толстый человек погладил ладонями бескостное лицо свое и заговорил более звонко, даже как бы ехидно:
— А перед кем отвечать? Сам знаешь; я делаю историю, может — скверно, а все-таки делаю, предоставляя интеллигентам свободу судить и порицать меня. Но — чтобы в дела мои не лезли иначе, как словесно! Тебе дана историей роль повара-марксиста, мне — роль кота Васьки, а пролетарий даже в Германии к делу фабрикации истории не доспел. Однако я понимаю: революцию на сучок не повесить, а Столыпин — весьма провинциальный дурак: он бы сначала уступил, а потом понемножку отнял, как делают умные хозяева. А он вот хочет деревню отрубами раскрошить, полагая, что создаст на русских-то полях американских фермеров, а создать он может токмо миллионы нищих бунтарей, на производство фермеров у него как раз сельскохозяйственного инвентаря не хватит, даже если он половинку России французским банкирам заложил бы.