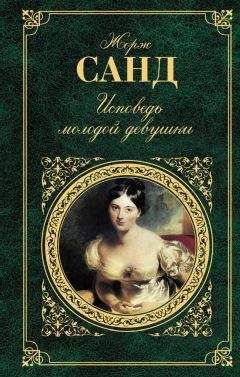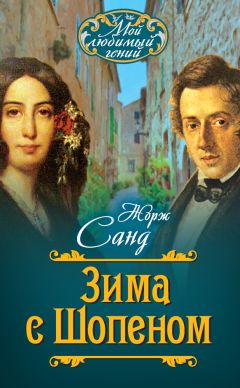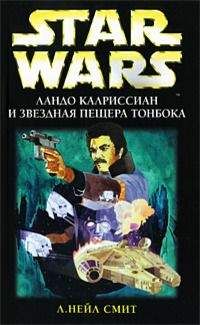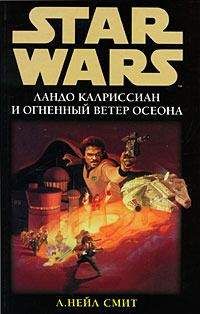Она не была так суматошна и навязчиво нежна, как Дениза. Ее фигурка не сгибалась в поклоне по любому поводу, ее глаза не были полны слез, ежеминутно готовых брызнуть. Но одно ее слово стоило для меня больше, чем все ребяческие ласки моей кормилицы. Какое различие было между ними, и насколько Женни во всем превосходила мою несчастную безумицу! Она обладала интеллектом, который я еще не способна была по достоинству оценить, но он воздействовал на меня с покоряющей силой истины. Так как она никогда ничего не рассказывала о своем прошлом и не разрешала задавать о нем вопросы, нельзя было понять, где она научилась всему тому, что она знала. Она читала и писала лучше меня и, конечно, лучше Мариуса и бабушки. Она говорила, что неустанно работала всю жизнь и прочла бесчисленное количество хороших и посредственных книг, достоинства и недостатки которых определяла с поразительной тонкостью. Благодаря ли чтению или глубокой интуиции озарила она свой разум, проникла в тайны человеческого сердца и с безошибочностью познала все оттенки человеческих чувств? Она отличалась также замечательной наблюдательностью и удивительной памятью. Когда она вместо бабушки присутствовала на наших уроках, она или шила что-нибудь у окна, или чинила белье, не отрывая глаз от своей работы, но она не упускала ни слова из того, что нам объясняли. Когда у меня возникали затруднения с завтрашним уроком, я вечером в своей комнате обращалась к ней за помощью, и она исправляла мои ошибки или разъясняла мне все непонятное простым и ясным языком, который был как бы самой сутью того, что по необходимости столь подробно и пространно объяснял Мариусу Фрюманс.
Где находила она всеобъемлющую способность переходить от мелочей кухни и птичьего двора, — ибо она смотрела за всем, — к этим упражнениям, требующим интеллекта и разума? Она даже немного знала математику и латынь. Для этого энергичного и ясного ума не было ничего таинственного. Гораздо более одаренная, чем я, она в беседе заставляла меня запоминать исторические даты и технические термины, которые все время ускользали у меня из памяти. Но ей мало было этой работы, она еще часть ночи проводила в постели за чтением. Ей вполне достаточно было поспать четыре-пять часов. Она всегда ложилась последняя, вставала утром первая, ела мало, никогда днем не отдыхала, никогда ничем не болела, а если и болела иногда, то никто об этом не знал, да вряд ли знала и она сама. Ее лицо, на котором играл свежий румянец, несколько неподвижное в правильных очертаниях камеи, никогда не отражало следов усталости и горя.
Это удивительное создание, безусловно, продлило существование бабушки, отведя от нее все житейские хлопоты и все ужасы старости. Она установила в доме порядок, чистоту и разумное ведение хозяйства, что сделало для нас жизнь легкой и ясной, как прозрачная вода, которая широко льется в мраморный бассейн. Никаких остановок, никаких выходов из берегов. Казалось, что она держит в руках все замки от шлюзов нашей жизни. Бабушка почувствовала, что как бы остановилась на несколько лет между старостью и дряхлостью. Слуги прекратили совершать злоупотребления, и у них не было ни разу оснований пожаловаться на нарушение круга их обязанностей. Арендаторы стали более добросовестны, они были теперь довольны своей судьбой. Аббат Костель стал строже следить за собою и, оставаясь по-прежнему философом и ученым, сделался как-то чистоплотнее и воздержаннее. Госпожа Капфорт стала приезжать к нам не так часто и усвоила себе, что слуги уже менее расположены отвечать на ее постоянные расспросы обо всем. Только господин Малаваль и его друг Фурьер не умерили пыла своих фантастических выдумок. И при этом Женни никогда не выходила из своей роли, никогда не позволяла себе сказать хоть слово за пределами своих обязанностей. Она не делала никаких замечаний по поводу посторонних людей, и никогда еще наш дом не был столь уважаем всеми. Но на бабушке и на всех нас появился какой-то отпечаток прямоты ума и твердости духа Женни. Благодаря совместной жизни с нею мы стали более стойкими в своих мыслях и более сдержанными в своих манерах. Общий вид дома и все, кончая хозяйственными делами и приемом пищи, носило теперь на себе печать некоего декорума и достоинства, под которым чувствовалось чье-то тайное влияние. Непринужденность жизни средиземноморского побережья уступила место подлинному гостеприимству, более действенному, потому что его больше поддерживали.
Я наслаждалась полным счастьем. Какое право имела я в то время жаловаться на свою судьбу? Мною так восхищались, меня все так любили. Сколько других невинных детей в моем возрасте знали только заброшенность и несправедливость!
В 1818 году мне было четырнадцать лет, а Мариусу семнадцать. Мое образование было вполне достаточным для моего возраста, его — лишь таким, каким оно могло быть. Оно принесло ему какую-то пользу в том смысле, что, усваивая объяснения вещей, которые он слушал плохо и понимал мало, он все-таки получил какое-то представление об этих вещах и мог что-то сказать о них как о чем-то знакомом. Он был красив, у него было знатное имя, природный ум, он умел вести приятную и шутливую беседу. В светском обществе он всем нравился, ибо уже начал появляться в свете. Бабушка разрешила ему завести себе лошадку и поддерживать знакомства в Тулоне и Марселе, куда он время от времени наведывался. Его первые выступления в провинциальном обществе ознаменовались бо́льшим успехом, чем этого мог ожидать добросовестный и несколько наивный Фрюманс. Ибо, тогда как он краснел за посредственность своего питомца и опасался, как тот будет держаться в обществе, Мариус отовсюду слышал похвалы, завязывал новые знакомства и всегда возвращался домой таким непринужденным и самоуверенным, что мы просто поражались. Он знал, как вести себя, и усваивал обычаи с легкостью человека, который ставит обычаи превыше всего. Однако его великолепное умение жить отнюдь не мешало ему постоянно подчеркивать, что у нас ему ужасно скучно и он жаждет как можно скорее расстаться с нами. Видя, как нетерпеливо он стремится к этому, бабушка снова стала беспокоиться о том, какую профессию он должен себе избрать. У нас в некоторых аристократических семьях еще сохранились предрассудки против коммерции, промышленности и большинства свободных профессий. Молодой человек из приличной семьи, но без средств может быть только моряком или военным. Но, чтобы стать военным, то есть сразу офицером, как это представлял себе Мариус, нужно было пройти через непреодолимые преграды, и бабушка, хорошо зная надменность и тонкость чувств своего внука, не осмеливалась предложить ему стать юнгой или простым солдатом.
Однажды в незыблемом спокойствии нашей жизни произошла небольшая драма, смысл которой открылся мне гораздо позднее и последствия которой я увидела ясно, хотя и не понимала их причины.
А причина была очень простая. Мариус, который еще не был подвластен зову плотских страстей и был слишком недоверчив или слишком благоразумен, чтобы его вовлекли где-то вдали от нас в какую-нибудь недостойную авантюру, вдруг стал беспокойным, рассеянным, возбужденным, даже несколько сумрачным. Он ненавидел Женни, которая ему никогда не льстила, и тем не менее в одно прекрасное утро он сделал попытку установить с ней более дружеские отношения, объявив ей, что она красавица. В ответ на это Женни только пожала плечами. Несколько дней подряд он все повторял ей, что она красавица. Не знаю уж, какой урок она ему дала, но он разозлился на нее и стал резок и дерзок с Фрюмансом. В моем присутствии он позволял себе какие-то странные насмешки над предпочтением, которое Женни якобы оказывала этому фатоватому верзиле-педагогу, которого он, Мариус, совершенно не выносит.
Как-то Мариус явился на урок в охотничьем костюме и с ружьем в руках. Он вручил Фрюмансу свои тетради.
— Будьте любезны поскорее поправить их, — сказал он. — Сегодня я предполагаю отправиться на охоту.
Это была явная демонстрация. Фрюманс ничего не ответил, взял тетрадки, поправил их и вернул ему, сказав с невозмутимым спокойствием:
— Желаю вам удачной охоты, господин Мариус.
— Господин Фрюманс, — возразил Мариус, искавший предлога для ссоры, — меня зовут господин де Валанжи.
— Тогда, — продолжал Фрюманс с кроткой улыбкой, — я желаю удачной охоты господину де Валанжи.
— Благодарю вас, господин Фрюманс. Я ухожу и ставлю вас в известность, что отныне буду заниматься один.
— Это уж как вам будет угодно, — ответил Фрюманс.
— Но, — не унимался Мариус, — так как не принято, чтобы у молодой девицы был наставник, когда у нее уже есть гувернантка, я полагаю, что вы могли бы теперь избавить себя от необходимости сопровождать мою кузину на прогулках, по крайней мере хотя бы тогда, когда ее гувернантка не будет ощущать необходимость в вашем обществе, в каковом случае у меня больше не будет к вам никаких замечаний.