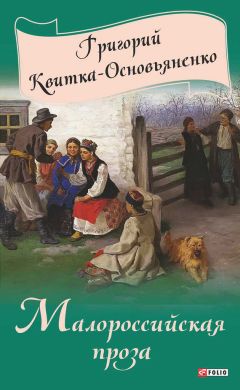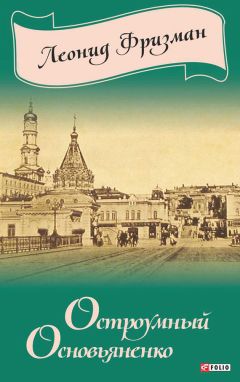– Не скажу, Василечку, ей-богу, не скажу!
– Почему же ты не хочешь уверить меня в моем счастье?
– Стыдно ведь.
– Маруся, вот же поцелую, если не скажешь…
– Да хоть десять раз целуй, лишь бы не я тебя; а все-таки не скажу…
– Вот так же… вот так… вот так же! – приговаривал Василь, целуя ее раз по пяти, не отдыхая, да опять вновь за то ж… И потом уже не может и слова вымолвить… А Маруся лежит у него на руках, и сама себя не помнит, в раю ли она или где? Так ей хорошо было! Что-то хочет сказать и слова не может выговорить; хочет от него вырваться, так будто прикована к Василевой шее; хочет зажмуриться, так глаза против ее воли так и засматривают Василю в глаза, что как уголья на огне пылают; хочет от него отвернуться, а и сама не чувствует, как прижимается к нему… А он!.. Он только рассматривает ее, как будто ест ее глазами. Забыл весь свет. Хотя бы ему тут из пушек стреляли, хотя бы кто его ни звал, ничем бы не уважил, только что смотрит на свою Марусеньку, держа ее на руках своих.
Потом пришла она в себя, тяжело вздохнула и сквозь слезы сказала:
– Василечку! Что это со мною сделалось? Ничего не помню, не знаю сама себя; только у меня и на мысли, что ты меня любишь, что ты мой… Да мне больше ничего и не нужно!.. Боюсь только: нет ли мне за то греха?
– За что, моя Марусенька? – сказал Василь, прижав ее к сердцу и горячо поцеловав.
– Ох, не целуй меня, мой сизый голубчик!.. Мне все кажется, что грех нам за это… Боюсь прогневить Бога!..
– Так я тебе, моя Марусенька, тем же Богом божуся, что нет в этом никакого греха. Он повелел быть мужу и жене; заповедал, чтоб они любили один другого и чтобы до смерти не разлучались. Теперь мы любимся, даст Бог, исполним святой закон, тогда не разлучимся во весь век. А до того времени, как ни сойдемся, нам можно без греха и любиться и голубиться…
– А не дай бог, как… – сказала Маруся да и прижалася к Василевому плечу. И не договаривает, и боится взглянуть на него.
– Не доведи до того боже, – даже вскрикнул Василь и даже испугался, о чем Маруся стала ему намекать, – буду, говорит, моя кукушечка, как глаз беречь. Никакая скверная, бесовская мысль и на сердце не будет. Не бойся меня. Я знаю Бога небесного, он накажет за злое дело, все равно что и за душегубство. Не бойся, говорю, меня; и если бы уже и так случилось, что ты бы стала забывать о Боге и о стыде людском, то я тебя сберегу, как брат любимую сестру…
– Братец мой миленький! – вскрикнула Маруся и обняла его ручками. Долго смотрела ему в глаза и после говорит:
– Теперь я сама тебя поцелую даже три раза, потому что знаю, что и у тебя нет на мысли никакого худа, – и положила головку ему на плечо, засматривая в глаза, да так пристально, как будто тот барашек, которого хотят резать, а он жалко смотрит. Так и она взглянула на Василя, а слезка, как та росинка на цветочке, так и засияла у нее в глазах; и потом она его спросила, да так жалостно, как будто флейточка заиграла:
– Неужели же ты и после этого меня оставишь?
– Не говори мне этого, Маня! И не думай об этом, моя крошечка! Грех божиться, но я вот смертною клятвою побожуся, когда мне не веришь…
– Верю, верю, мой соколик, мой лебедик! И что бы ты мне ни сказал, всему верить буду!..
Много рассказывать, что там Василь с Марусею разговаривали. Забыли про весь свет, и где они находятся, и что вокруг них; и как бы не отозвалася еще издали к ним Олена, то бы, подкравшись тихонько, увидела все, как они поговорят-поговорят, да снова целуются. Когда же услышали Оленин голос, так тотчас и разрознилися, как будто и не они; Василь стал, как дитя, песком пересыпаться, а Маруся, тут же найдя камешки, стала их из руки в руку перекидывать; а сами и не переглянутся между собою.
Вот пошли все вместе домой. Олена и думает:
«Что это сделалося с нашею Марусею? Никогда не была она так весела и говорлива, да еще с парубком, от которых было прежде удаляется, как не знать от чего, а теперь сама заговаривает, шутит, выдумывает и все смеется с Василем, а меня будто и нет с нею. Поутру, как шли, так слова из уст не выпустила; теперь же не замолчит ни на часок; поутру насилу шла и нападала на меня, зачем я спешу; а тут вперед всех бежит, земли под собою не слышит, да все кидает на Василя то песочком, то щепочками. А он ее ловит, а поймавши… даже крутит ей руки. Это что-то недаром! Подожди-ка ты, смирненькая, что бывало нас укоряешь за игры с парубками! Я тебе отплачу».
Стали подходить к селу, вот Василь и говорит:
– Теперь уже прощайте, девушки! Мне так было весело с вами. Благодарю и очень благодарю вас за все, за все, за все! Не знаю, когда-то увижусь с вами! (А у Маруси даже слезки выкатились. Обтерла их скорее платочком, чтоб Олена не видела, да и стала, будто бы то песенку напевать и как будто подплясывать под нее, а сама быстро смотрит в глаза Василю). – Нате же, – говорит Василь, – все ваше добро, выбирайте из лукошка; может, не потерял ли я чего? Я же пойду своею дорогою…
Вот девки стали выбирать. Олена все забрала и положила за пазуху, а Маруся, пересмотревши, сложила в лукошко и пошла себе. Только что отошел от них Василь подале, как Маруся, будто спохватившись, вспомнила и говорит:
– Вот также! Все забрала, а синий купорос[105], что батька велел купить, я и не взяла от Василя. Побегу, догоню его.
Догоняет, а сама все кричит, чтоб он подождал. Уж бы то Василь да не услышал бы Марусиного голоса! Не знаю! Стоит, как на иголках, и ожидает, чтоб Маруся подбежала к нему, и что-то она ему скажет?
Вот она, догнавши его, говорила:
– Я нарочно, будто бы то забыла взять от тебя синий купорос, чтоб тебе тихонько сказать: приходи сегодня к озерам, что в нашем бору, я там буду, и еще поговорим. Пусти же, не трогай меня, чтоб Олена не догадалась. Подай сюда купорос и прощай, мой миленький соколик! Приходи же!
Сказавши это, сколько духу побежала к Олене.
Олена же все подсматривала, да и думает себе:
«Хорошо же до часа до времени. Не будет теперь меня удерживать».
Пришла Маруся домой. Батюшки! Весела, проворна, и говорит, и рассказывает, и управляется за троих, так, что мать, глядя на нее, даже стала веселее и как будто от болезни ей легче стало. Хотела было поворчать на дочку, зачем долго проходила, так та же как начала к ней ласкаться, и приговаривать, и уговаривать ее, а сама и печь топит, и траву крошит, горшки вставляет, так что горит у нее дело.
Не успела мать оглянуться, уже у Маруси и обед готов. Села, ручки сложила и то и дело что рассказывает матери, как-то ей было хорошо идти на рынок еще до жару, что видела на рынке, как торговалась, как покупала, и кого видела, и с кем говорила, и что удивительного заметила – все, все до последнего раз по пяти пересказывала. Только про Василя ни полсловечка. Она-то и хотела бы матери рассказать, да не зная, с чего начать, подумала: «Пусть же спрошу у Василя, он меня научит, как про это рас сказать».
Пришел и старый Наум. Обедает и думает:
«Сроду Маруся такого доброго борщу не варила, как сегодня; и мясо хорошо сжарено, и все-таки хорошо, а лучше всего, что сама такая веселенькая и все рассказывает и шутит».
Потом и говорит Наум Насте:
– Видишь, я же говорил, что не надобно ни слизывать, ни шептать, – само пройдет.
После обеда прибрала ли Маруся или не прибрала, скорее схватила кувшинчик, да и говорит:
– Пойду же я, мамо, наберу вам земляники, там такой ее много было на рынке: наши девки так горшочками и носят. И вам насобираю, и может, что и продам.
Еще мать ей ничего на это и не сказала, а она уже и за воротами и поспешает прямо в бор к озерам. Хотя и видит по дороге землянику, но не собирает, а думает:
«Василь, может, меня уже ожидает, пойду, пойду скорее к нему; а как посижу с ним да буду возвращаться домой, тогда и ягодок насобираю».
Недолго она искала своего Василя; тут он и есть. Как же сошлися, так нужды нет, что, может, только часа три, как не видались, а словно как будто лет десять розно были. Обнимаются, целуют один другого, разговаривают, рассказывают; то, взявшись за руки, ходят; то опять сядут, да опять за то ж. И не опомнилися, как стало вечереть. И то правда, что когда будешь вместе с тем, кого любишь, то день так скоро пробежит, как часочек.
Маруся первая вскрикнула:
– Ох, мне лишенько! Видишь ли, где солнце?
– Так что ж? – спрашивает Василь.
– А то, – говорит Маруся, – как я домой пойду?
– Не бойся ничего, я тебя провожу.
– Не то, чтоб я боялась, а то, что я не набрала ягодок; я же за ними и просилась у матери. Что мне тут на свете делать? Расскажу матери, что заговорилась с тобой да и забыла.
– Нет, Марусенька, подожди еще говорить матери обо мне.
– А почему бы?
– Еще, мое сердечко, не время. Надо подождать.
– А как это можно? Отцу и матери надо все тотчас рассказывать и никогда не лгать перед ними. Что ж я теперь скажу, что не набрала землянички?
– Что хочешь, Маня, то и скажи, а только не говори про меня. Я сам, как придет время, я сам скажу.