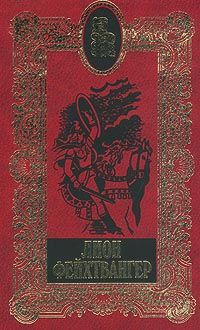Фридрих Беньямин был умен. Он знал, что идея бескомпромиссного мира решающему большинству людей именно в данный момент представляется чистой утопией. Поэтому он решил проповедовать ее не в лоб, а обиняками, прибегать к хитрости. Но Беньямин был настолько одержим своей идеей, что, невзирая на всю его осторожность, она пропитывала все, что он писал, и многие формулировки в его статьях настораживали его коллег и читателей.
Больше всех поведение Беньямина огорчало практичного, здравомыслящего Петера Дюлькена. Идеалы завтрашнего дня, говорил он, следует пока отложить и все силы бросить на достижение ближайшей цели, на свержение фашизма. Он, Петер Дюлькен, человек терпимый. По нем, пусть Фридрих Беньямин строит себе столько иллюзий о возможности абсолютного мира, сколько ему заблагорассудится, пусть даже, если хочет, рассылает всем хоть сколько-нибудь влиятельным политическим деятелям кантовский «Вечный мир»{113} или раз в неделю в зоологическом саду уговаривает волка пастись рядом с ягненком{114}. Но провозглашением своей заоблачной морали Беньямин подрывает ударную силу «Парижской почты», и вот против этого он решительно возражает. Если такой умный человек, как Беньямин, преследует расплывчатые мессианские цели, если он видит только лес и до крови расшибается о каждое дерево в отдельности, то это его личное дело. Но тем, что он, упорно придерживаясь своего идеала, сбивает с толку читателей «ПП» в их оценке злободневных вопросов, он приносит вред, и с этим уж необходимо бороться.
В один прекрасный день конфликт между ними прорвался наружу. Спор разгорелся по поводу санкций, которые Англия требовала применить к агрессору, напавшему на Абиссинию. Беньямин в тщательно продуманной и хорошо отработанной статье указал на опасности, которыми чревато применение санкций для стран с демократическим режимом. Пит, критикуя статью, заметил, что именно в этом вопросе одержимость, с которой Беньямин ничего другого, кроме своей конечной цели, не желает видеть, уводит его от правильного представления о вещах. Беньямин возразил и привел свои доводы. Дюлькен — свои. Беньямин говорил спокойно и вежливо, но от своей «навязчивой идеи», как называл ее про себя Пит, не отступался. В конце концов Пит рассвирепел, что вообще-то случалось с ним редко. И виновата была главным образом улыбка Беньямина, она-то и вывела Дюлькена из себя. Тот, кто любил Фридриха Беньямина, считал, что эту улыбку рождает глубокое, непоколебимое внутреннее прозрение, что она тиха, смиренна, мудра. А Пит, наоборот, увидел в ней улыбку безумца; обычная уравновешенность изменила ему, он забылся. Он отбросил со лба длинные пряди каштановых волос.
— Знаете ли, Фрицхен, — сказал он довольно-таки жестким голосом, в котором и следа не осталось от обычной флегмы, — то, что вы сидели в концентрационном лагере, еще далеко не доказывает, что вы что-либо понимаете в практической политике.
Еще не закончив фразы, он уже пожалел, что слова эти вырвались у него, и тотчас же попросил извинения. Беньямин мгновенно ответил, что он не в обиде на Пита за его необдуманные слова. Но улыбка на лице Беньямина превратилась в гримасу, он побледнел и, несмотря на живейшие возражения Пита, забрал у него свою статью.
С этого дня он и Пит разговаривали друг с другом с необычайной осторожностью. Но их взаимная подспудная неприязнь затрудняла редакционную работу. В особенности сожалел о разладе между ними Царнке. Он решил положить этому конец путем доброжелательных переговоров.
Царнке сумел все так хитро устроить, что однажды Пит и Беньямин якобы случайно встретились у него дома. Сидели за кофе, вишневым ликером и пирожными, и юстиции советник осторожно навел разговор на те принципы, которые являлись объектом спора между его гостями. Фридрих Беньямин соглашался почти со всеми тезисами своего противника, но выводы его считал неправильными. Он был убежден, что любое унижение, любая капитуляция лучше, чем страшное повторение ада, именуемого войной. Война — корень всех зол; никакая насмешка, скрытая или открытая, не могла заставить Беньямина изменить свое мнение, что мир, хотя бы и самый недостойный, лучше открытой войны. А Петер Дюлькен утверждал, что несвоевременная правда хуже самой худшей лжи и люди иной раз руками и ногами цепляются за мечту о невозможном только затем, чтобы не видеть возможного. А возможная цель в настоящий момент, единственно необходимая цель — это разгром национал-социализма. Если же кое-кто ничего другого перед собой не видит, кроме недосягаемого еще сегодня вечного мира, то он от досягаемой цели уничтожения фашизма — уходит все дальше и дальше.
Царнке старался примирить обе точки зрения, но тут его искусство талантливого адвоката спасовало. Петер Дюлькен настаивал на своем, а Фридрих Беньямин — на своем. Лучше жить на коленях, чем умереть стоя, говорил Беньямин. Сначала надо попробовать, нельзя ли жить стоя, говорил Дюлькен. Оба приводили множество убедительных доводов в защиту своего взгляда, а такие доводы всегда к услугам того, кто искренне верит в свою правоту и желает ее доказать.
Царнке внимательно слушал. Он слушал доводы Беньямина и соглашался с ними. Он слушал доводы Дюлькена, и они казались ему правильными. И он не мог удержаться, чтобы не поделиться этим со спорящими. А в заключение Царнке не без удовольствия рассказал о раввине и споре насчет теленка.
«К раввину пришли члены общины, реб Мендель и реб Лейзер, и попросили рассудить их. Реб Мендель говорит, что теленок принадлежит ему, а реб Лейзер говорит — ему. Раввин велит реб Менделю обстоятельно изложить дело и, выслушав его, решает: ты прав, реб Мендель. Потом приходит черед реб Лейзера; и его выслушав, раввин также решает: ты прав, реб Лейзер. В разговор вмешивается Менухим, ученик раввина, и говорит: „Рабби, если прав реб Мендель, так не может же быть прав реб Лейзер“. И раввин заключает: „И ты тоже прав, Менухим“.»
Однако удовольствие, которое юстиции советник Царнке сам же получил от рассказанной им притчи, было единственным результатом столь хитро задуманной им попытки примирения противников. Хотя те и простились внешне в полном согласии, но славный Царнке прекрасно понимал, что убеждения одного и убеждения другого — не просто убеждения, а часть их существа и что, сталкиваясь, они подобны огню и воде. Значит, ни к чему были его кофе, вишневый ликер, терпение и заряд уговоров.
Фридрих Беньямин рассказал Ильзе о встрече у Царнке. Ильза знала убеждения мужа и разделяла их. И все же, вдруг — возможно, что и ее раздражала его улыбка, — она взбунтовалась против его кроткой непоколебимости.
— Голубчики мои, задал же он тебе перцу, — воскликнула она, и голос ее прозвучал звонче, протяжнее, певучее, чем обычно.
Фридрих Беньямин удивленно вскинул глаза. Что это? Опять перед ним «саксонская леди»? Как ни тосковал он по прежней Ильзе, его тяжело поразили столь знакомые интонации.
А она, неожиданно переменив предмет разговора, спросила, когда же наконец он думает зайти к Зеппу Траутвейну.
Беньямин и в этих словах жены уловил раздраженные нотки. Он знал, с какой прямо-таки исступленной горячностью Зепп отдавался делу его спасения, знал и о жертвах, принесенных Зеппом. Само собой, он пойдет к Зеппу и выразит ему свою благодарность. Но если он оттягивал встречу, так именно из благодарности к Зеппу и из чувства такта. Беньямин знал, как увлеченно работает теперь Зепп, и не хотел навязывать ему свое общество. Но не только в этом было дело. Он, кроме того, понимал, что человек столь запальчивого темперамента, как Зепп, еще резче, чем Петер Дюлькен, отвергнет и осудит его идею безоговорочного мира, а ему не хотелось излишне волновать и раздражать Зеппа, которому он так обязан.
Он подыскивал слова, чтобы все это объяснить Ильзе. А она между тем, неправильно истолковав его молчание, продолжала:
— Не забудь, что Зепп Траутвейн взялся заменить тебя на пять дней, а не на семь месяцев.
Теперь уж говорила только прежняя Ильза, привыкшая каждую его слабость безжалостно называть своим именем и поднимать его на смех. Она ясно дала понять, в чем изобличает его: он, мол, оттягивает свой визит к Зеппу только потому, что Зепп никогда не был ему симпатичен.
Беньямин взглянул на нее. Он не собирается оправдываться перед «саксонской леди». Он промолчал.
На следующий день он отправился к Зеппу, в «Аранхуэс».
Он пришел как раз в момент, когда Зепп, забыв обо всем на свете, работал. С тех пор как Беньямина освободили, он едва вспоминал о нем. Призрачный Фрицхен, постоянно сопровождаемый тихой нездешней музыкой, лопнул, как мыльный пузырь, и развеялся. Беньямин во плоти, тот, кто вошел к нему с сигарой в зубах и в знаменитом котелке на голове, был просто один из безразличных знакомых, который своим приходом помешал ему работать.