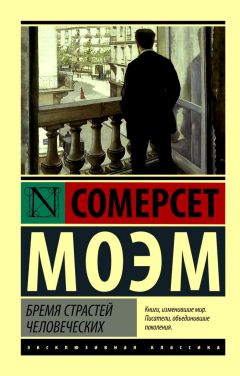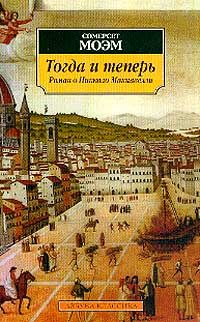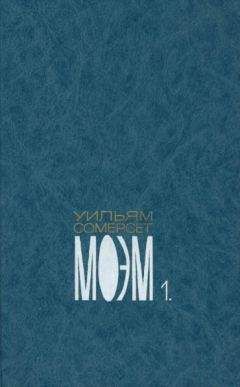– Сходить мне их поискать? – спросил Филип.
Говорить о повседневных делах было большим облегчением.
– Пожалуй, сходите… Вот и мама идет.
И, когда он поднялся, она спросила без всякого смущения:
– Пойти мне сегодня с вами погулять, когда я уложу детей?
– Да.
– Тогда обождите меня возле мостков, я приду, когда освобожусь.
Он сидел на мостках под звездным небом и ждал ее; по бокам возвышалась живая изгородь с почти уже спелой черной смородиной на кустах. От земли поднимались дурманящие запахи ночи, а воздух был ласков и недвижим. Сердце его бешено билось. Он не мог понять, что с ним происходит. Страсть в его представлении была связана со стонами, слезами и одержимостью, но ничего подобного у Салли не было; и тем не менее что же, кроме страсти, могло заставить ее отдаться ему? Но можно ли питать к нему страсть? Его нисколько не удивило бы, если бы она увлеклась своим двоюродным братом Питером Гэнном – высоким, сухощавым, стройным парнем с загорелым лицом и смелой, уверенной походкой. Филип не понимал, что Салли могла в нем найти. Да он и не знал, любит ли она его так, как умел любить он. Но что же тогда? Он ведь был уверен в ее чистоте. У него было подозрение, что тут сыграло роль многое, чего она, может быть, и не сознавала, – хмельной воздух летней ночи, здоровый, естественный инстинкт женщины, нежность, переполнявшая сердце, привязанность, в которой было что-то материнское или сестринское; она отдала все, что имела, потому что душа ее была щедра и милосердна.
Он услышал шаги на дороге; из тьмы появилась ее фигура.
– Салли! – прошептал он.
Она остановилась, а потом подошла к мосткам и принесла с собой чистые, благоуханные запахи природы. Казалось, что от нее исходит аромат только что скошенного сена, душистого зрелого хмеля, свежесть молодой травы. Губы ее были такими мягкими, когда они прикоснулись к его губам, а сильное, красивое тело – упругим под его ладонями.
– Мед и молоко, – прошептал он. – Ты как мед и молоко.
Он закрыл ей своими губами глаза и целовал ее веки – сначала одно, а потом другое. Ее сильная, мускулистая рука была обнажена до локтя; он провел по ней пальцами, поражаясь ее красоте – она словно светилась; кожа была такая, какую любил писать Рубенс, – поразительно белая, прозрачная, а сверху золотился пушок. Это была рука саксонской богини, но у небожителей не бывает такой чарующей и такой земной естественности; Филипу она напоминала деревенский сад, где растут милые каждому сердцу цветы: мальвы, белые и красные розы, чернушки и турецкие гвоздики, жимолость, дельфиниумы и камнеломка.
– Как ты можешь меня любить? – спросил он. – Жалкого калеку, ничтожного урода…
Она взяла его лицо обеими руками и поцеловала в губы.
– Ты ужасно глупый, вот ты кто, – сказала она.
Когда сбор хмеля кончился, Филип вместе со всеми Ательни вернулся в Лондон; в кармане у него лежало извещение о том, что он принят ординатором терапевтического отделения в больницу св.Луки. Он снял скромную квартиру в Вестминстере и в начале октября приступил к своим обязанностям. Работа была интересная и разнообразная, он каждый день узнавал что-то новое и чувствовал, что понемногу начинает приносить пользу; к тому же он часто виделся с Салли. Такая жизнь ему казалась необычайно приятной. К шести часам он уже был совершенно свободен – кроме тех дней, когда вел амбулаторный прием, – и отправлялся в мастерскую, где училась Салли, чтобы встретить ее после работы. Против «служебного входа» или чуть подальше, на углу, всегда дежурило несколько молодых людей, и девушки, выходившие из мастерской попарно или маленькими группами, подталкивали друг друга локтями и хихикали, узнавая своих ухажеров. Салли в гладком черном платье была совсем непохожа на ту деревенскую девчонку, которая собирала с ним хмель. Она быстро выходила из мастерской, но замедляла шаг, как только он ее нагонял, и улыбалась ему своей спокойной улыбкой. Они шли рядом по людной улице. Он рассказывал ей о своей работе в больнице, а она – о том, что делали сегодня в мастерской. Филип знал по именам девушек, с которыми она работала. Оказалось, что Салли обладает острым, хотя и сдержанным, чувством юмора: ее замечания по поводу товарок или их молодых людей были полны неожиданного комизма. У нее была способность подметить характерную деталь и рассказать о ней с самым серьезным видом, словно тут не было ничего смешного, но с такой убийственной точностью, что Филип покатывался со смеху. Тогда она поглядывала на него краешком глаза, который лучился от смеха, – видно, она понимала комизм того, что рассказывает. Здоровались они за руку и прощались так же официально. Однажды Филип предложил ей зайти к нему выпить чаю, но она отказалась.
– Нет, не хочу. Это будет странно выглядеть.
Они никогда не заговаривали о любви. Ей, по-видимому, вполне хватало его общества во время этих прогулок. Однако Филип был убежден, что она рада с ним бывать. Она оставалась для него такой же загадкой, как и в начале их отношений. Ее поведение было ему непонятно, но, чем больше он ее узнавал, тем больше к ней привязывался: она была расторопна и сдержанна, в ней было какое-то удивительное прямодушие; чувствовалось, что можно на нее положиться во всем.
– Ты необыкновенно хороший человек, – сказал он как-то ей ни с того ни с сего.
– Да, небось, ничуть не лучше других, – ответила она.
Филип знал, что не любит ее. Он чувствовал к ней огромную симпатию; ему с ней было хорошо – удивительно, до чего ему с ней было покойно, – к тому же, как ни смешно это звучит, он питал уважение к этой девятнадцатилетней швейке. И его восхищало ее завидное здоровье. Она была великолепным образцом человеческой породы, без всякого изъяна, а физическое совершенство всегда вызывало у него благоговение. Он чувствовал себя недостойным ее.
Но вот однажды, недели через три после их возвращения в Лондон, они шли рядом, и он заметил, что она как-то особенно молчалива. На ее всегда таком ясном лбу пролегла тонкая черточка; казалось, она вот-вот нахмурится.
– Что случилось? – спросил он ее.
Она смотрела не на него, а прямо перед собой; щеки ее густо зарумянились.
– Не знаю.
Он мгновенно понял, что она хотела оказать. Сердце его вздрогнуло, и он почувствовал, что от лица отхлынула кровь.
– Ты думаешь? Ты боишься, что ты…
Он осекся. Слова застряли у него в горле. Такая возможность никогда не приходила ему в голову. Тут он увидел, что губы ее задрожали и она изо всех сил старается не заплакать.
– Я еще не уверена. Может, все и обойдется.
Они молча дошли до угла Чансери-лейн, где он всегда с ней прощался. Она протянула ему руку и улыбнулась.
– Рано еще беспокоиться. Будем надеяться, что все обойдется.
Он расстался с ней в полном смятении; в голове его беспорядочно теснились мысли. Ну и дурак! Безмозглый, непроходимый дурак! Он злобно ругал себя, твердя одно и то же десятки раз. Как он себя презирал! Нужно же было попасть в такую петлю! Мысли его безудержно неслись, обгоняя друг друга, путаясь, словно части головоломки, в каком-то ужасном кошмаре, и он с отчаянием спрашивал себя, что же он будет делать. Будущее, казалось, было так ясно; все, о чем он долго мечтал, стало наконец осуществимым, а вот теперь его невообразимая глупость воздвигла это новое препятствие. Филипу никогда не удавалось побороть в себе то, что, как он знал, мешало ему спокойно существовать, – своей страсти жить завтрашним днем; едва только успел он устроиться на работу в больнице, как все его помыслы уже были обращены на будущие странствия. Раньше он часто принуждал себя не думать о будущем – ведь от этих мыслей он только впадал в отчаяние; но теперь, когда цель была так близка, он не видел вреда в том, чтобы уступить непреодолимому влечению. Прежде всего он поедет в Испанию. Это была страна его мечты; он проникся ее духом, ее романтикой и величием ее истории; он чувствовал, что в ней он отыщет то, чего ему не может дать никакая другая страна. Он знал ее прекрасные старинные города так, словно с детства бродил по их кривым улочкам, – Кордову, Севилью, Толедо, Леон, Таррагону, Бургос. Самыми близкими ему художниками были великие испанские мастера; у него замирала душа, когда он представлял себе свой восторг перед теми творениями, которые столько говорили его наболевшему, беспокойному сердцу. Он прочел ее великих поэтов, куда лучше выразивших душу своего народа, чем поэты других стран, ибо вдохновение свое они черпали не из источников, общих для всей мировой литературы: их вдохновляли выжженные, напоенные горьким запахом равнины и суровые скалы родной земли. Еще несколько месяцев, и он услышит язык, который лучше всего выражает величие души и страсти. Природный вкус подсказывал ему, что Андалузия, быть может, слишком податлива, чувственна и даже вульгарна, чтобы утолить его пыл; Филипа больше влекли открытые ветрам просторы Кастилии и каменистые громады Арагона и Леона. Он сам еще толком не знал, что он там встретит, но чувствовал: в Испании он обретет силу, которая поможет ему легче воспринять все чудеса еще более далеких и чуждых ему стран.