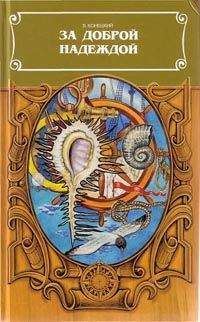Я думал, елки нейлоновые. Но запах не может обмануть. Настоящим морозцем и грибами пахнут елки в ночном Дакаре на бульваре Пине-Лапрад и на аллее Канар.
Норвежскую елку покупало при мне за полторы тысячи франков смешанное африканское семейство: он — черный, очень черный, антрацитный, высокий, стройный, с умными ироническими глазами; она — белая, веснушчатая, худощавая, с девичьим шармом. И держат за руки сынка между собой — смесь. Никто на семейство не оборачивается — нормальное дело.
Елки в Сенегале я увидел, а где баобабы?
Такое вкусное на слух дерево, великан-симпатяга, которое обнять могут только дружные люди, потому что им надо будет взяться за руки: не меньше пятнадцати друзей на один баобаб.
В сухой сезон он кажется совершенно мертвым, хуже саксаула. Притворяется, подлец. Чуть брызнет дождик, на толстяках-сучьях выбрызгивают листья. И быстро рождаются в кроне огромные цветы, похожие на водяные лилии.
Баобабы живут в саванне. Их не удается приручить. Они не могут без одиночества. И терпеть не могут современный город. И я их не видел в Дакаре.
Но тамтамы услышал.
Вахты у нас были стояночные — сутки на брата.
Около полуночи я отправился в обход по судну.
Было воскресенье, порт не работал.
По носу спал американский теплоход, по корме — испанец.
Особенное чувство отрешенности появляется, когда ночью один обходишь судно. Сталь палуб, кажется, пружинит под ногами. Самый слабый звук за бортом будит четкое эхо в трюмах. Обычные и привычные предметы на баке — брашпиль, цепи, стопора, флагшток, — лишенные человеческого обрамления, выглядят самостоятельными, живущими сами по себе, как киплинговский кот.
Пнешь ногой швартов на кнехтах — несколько тонн стальных проволок и не подумают шевельнуться.
Положишь руку на рукоять разъединителя, подивишься мощи якорь-цепи.
Без всякой нужды ляжешь грудью на фальшборт, перевесишься, глянешь на сам якорь, торчащий из клюза. Молчит якорь. Спит. Как чуткая собака. Готов залаять в любой момент, ухнуть в суету волн, вцепиться в грунт мертвой хваткой.
Безмолвно работают Золушки-стопора — ни сна, ни отдыха их чугунным мышцам.
Желтые лучики вырываются из клетки штагового фонаря, летят не меньше трех миль во все стороны...
Зевнешь, плюнешь на окурок, выщелкнешь его за борт.
Водичка бормочет между бортом и причалом, колышется у свай, полощет тинную слизь на сваях.
Смотришь почему-то на окурок, ждешь, когда утонет.
И никакого тебе дела нет до чужой земли, возле которой живешь в этот миг своей жизни. Гудок буксира, далекий лязг буферов, шумок стравливаемого пара не слышишь — привычны и везде одинаковы портовые звуки.
А в Дакаре в воскресную ночь из привычности на мягких и хищных лапах подкрались таинственные звуки.
Теплый ветер тянул с северо-востока, и они вплетались в него, несли тени саванны, свет луны на морщинах древних баобабов, низкий гул занимающегося пожара, топот толпы — тысячи голых ступней в едином ритме делают медленные шаги.
Всем там быть!
Всем!
Там!
Быть!
Тамтамы проснулись в ночном Дакаре.
Тамтам изваянный, тамтам напряженный;
Рокочущий под пальцами победителя-воина;
Твой голос, глубокий и низкий, — это пенье возвышенной страсти, -
так написал президент этой страны еще до того, как стал политиком.
Я не знал, что тамтамы загудели в ночном Дакаре в честь возвращения президента Сенгора из заграничной поездки.
О чем подумает вахтенный штурман, когда ночью услышит гул барабанов? Война, бунт, революция, дворцовый переворот, землетрясение? Не позвонить ли из полицейского поста возле портовых ворот в посольство? Не начать ли сматывать удочки, то есть готовить машину? Ведь стреляют и вешают по всему огромному Африканскому континенту. Об этом подумаешь, а не о лунной тени баобабов в саванне и не о женщине, охваченной возвышенной страстью.
Но мирно продолжали похрапывать суда у причалов и пирсов. Мирно дышала вода за бортом. Театрально-занавесно колыхался тропический мрак вокруг редких фонарей. Неспешно совершал очередной круг почета роскошный Орион в небесах. И корабельный металл впитывал сонное воркование голубей, притаившихся на карнизах пакгаузов.
Гул тамтамов креп, не нарушая торжественной тиши дакарской ночи, существуя помимо нее, как существует без человека якорь на грунте.
Есть певцы, которые, обладая даже сильным и хорошим голосом, усиливают впечатление страстности при помощи раздувания ноздрей. Особенно неловко видеть их ноздревскую чувствительность на экране телевизоров. А есть певцы, которые стараются не использовать при пении даже такой благородный инструмент, как руки.
Тамтамы не рвут занавес африканской ночи. Они колышутся вместе с ней, пульсируют пульсарами из глубин вселенной. Это касается даже тама — самого маленького барабана, величайшего из болтунов. Потому-то у тамтамов нет эха. Оно может родиться только в тени баобаба, освещенного луной. Только тень способна отразить и вернуть голос тамтама.
Тамтам ищет в африканской ночи надежды для своей мечты. Разве найдешь ее среди пакгаузов?
Тамтамы — это ладони, которыми Африка ударяет себя по груди, вспоминая древние ритмы и древнюю мудрость. И духи древности откликаются на зов лунной тени баобабов.
Живые спрашивают глухо и безнадежно:
Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец?
Всем там быть?
Из древней тьмы ночи:
Все идет на лад!
Все идет на лад!
Все идет на лад!
Н'донг! Н'донг!
Подумалось о всех пастушьих свирелях, о всех песнях, спетых человечеством в те времена, когда еще не знали нот. О всех словах, молитвах и симфониях, которые улетели на воздушных волнах еще до века граммофонов и магнитофонов. Сколько их, незримых, но телесных и теплых, витает вокруг нас. Они зашифрованы в каждом дуновении ветра, и в каждой капле дождя, и в каждой снежинке. Ничто совсем не исчезает в этом мире. Под саваном древних напевов живет человек, пасмурной тенью облаков и солнечным лучом они сопровождают нас всегда.
Всем!
Там!
Быть!
Ба!
О!
Баб!
Я чувствовал, как голоса тамтамов приближаются, обволакивают огромное судно, бродят по пустынной штурманской рубке.
Чужие голоса чужой страны.
На спящей воде в пространстве между судами в такт тамтамам вспыхивали лунные блики.
Корабельный пес Пижон поскуливал. Чужие голоса в ночи пугали его. А может, он успел узнать от здешних собак свою родословную и возгордился. Катч-собаки получили мудрость от Луны. Они проникли в жилище человека тысячи лет назад, чтоб изгнать оттуда злых духов. Когда-то собаки получали здесь от людей первое животное, убитое в новолуние. Может, Пижон требовал от меня жертвоприношения?
Я дал Пижону таинственный кусок сахара.
В лунном свете сахар был зеленым. Лиловые искры вспыхивали на зеленом рафинаде.
— Черт! — сказал я. — Пижон, что я наделал? Я не хочу, чтобы ты выгонял из этой стальной коробки злых и всяких других духов. Пожалуйста, ешь сахар, но не изгоняй их, о Сын Дворника! Не выметай их метлой черного хвоста, Дворняга!
Я никогда не видел гномов.
И духи избегают меня.
Для других бьют тамтамы в лунной тени баобабов.
Таинственность бежит из сказки моей жизни.
Даже в детстве я не читал сказок.
Я начинаю их читать только теперь.
Но они не даются мне.
Что делать?
Я хочу сковырнуть с души коросту, промыть ее морщины марганцовкой и ощутить мир целиком — всю круглость Земли и безотчетность космических сил.
Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец!
Всем — там — быть!
Там — быть!
Там — быть!
С другой стороны причала под эстакадой спали плакучие тропические деревья, опустившие ветви до воды. Они жили посреди современного порта, между автокаров, погрузчиков, электромоторов, но привыкли не замечать новых ритмов. Тамтамы навевали деревьям веселые, дождливые, мокрые сны.
А ведь и мне предстоит начать все с начала, подумал я.
От этой мысли стало страшно. Громадность работы впереди ужаснула. Громадность работы впереди была ужаснее самого ужасного лика Бога, какой только мог присниться Ионе.
Чтобы сделать что-то серьезное, мне надо начать все с самого начала, подумал я. Надо опять прожить детство, отрочество, юность, возмужалость. А настоящая, сегодняшняя моя жизнь — что же, она будет стоять на месте? Даже если я не побегу от лика ужасной работы, если я решусь на нее, то кто будет платить мне? Кто будет платить за то, что я зачеркну все сделанное мною в жизни? Кто гарантирует, что, раз остановившись, я смогу когда-нибудь сделать еще хотя бы шаг?
Наша юность начиналась на площадях.