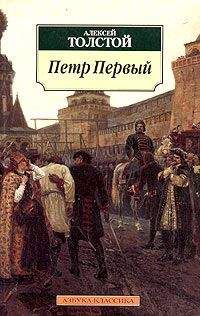— Вот он мне, значит, и говорит, — вытерев пот тылом ладони, продолжал кузнец: «Слышал ли ты, Кондратий Воробьев, про тульского кузнеца Никиту Демидова? У него сегодня на Урале и заводы свои, и рудники свои, и мужики к нему приписаны, и хоромы у него богаче моих, а ведь начал вроде тебя с пустяков… Пора бы и тебе подумать о большом деле, не век у проезжей дороги лошадей ковать… Денег нет на устройство, — хоть и у меня туго с деньжонками, — дам. Ставь оружейный завод в Москве, а лучше — ставь в Петербурге… Там — рай…» И так он мне все хорошо рассказал, — смотрю — смущает меня, смущает… Ох, отвечаю ему, ваше величество, Петр Алексеевич, живем мы у проезжей дороги знатно как весело… Родитель наш говаривал: «Блин — не клин, брюхо не расколет, — ешь сытно, спи крепко, работай дружно…» По его завету мы и поступаем… Всего у нас вдоволь. Осенью наварим браги, такой крепкой — обруча на бочках трещат, да и выпьем твое, государь, здоровье. Нарядные рукавицы наденем, выдем на улицу — на кулачки и позабавимся… Не хочется отсюда уходить. Так я ему ответил. А он как осерчает. «Хуже, говорит, не мог ты мне ответить, Кондратий Воробьев. Кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять, тому — все потерять. Ах, говорит, когда же вы, дьяволы ленивые, это поймете?..» Загадал мне загадку…
Кузнец замолчал, нахмурился, потупился. Младшие братья глядели на него, им тоже, конечно, хотелось кое-что сказать по этому случаю, но — не смели. Он покачал головой, усмехнулся про себя:
— Так-то он всех и мутит… Ишь ты, это мы-то ленивые? А выходит, что — ленивые. — Он быстро обернулся к горну, где калилась вторая ось, схватил клещи и — братьям: — Становись!
Часа через полтора телега была готова, собрана, крепка, легка. Дева в лубяном кокошнике все время вертелась около кузницы. Кондратий наконец заметил ее:
— Машутка! — Она метнула косой и стала как вкопанная. — Сбегай принеси боярам молока холодного — испить в дорогу.
Гаврила, прищурясь на то, как она мелькает пятками, спросил:
— Сестра? Девка завидная…
— А — ну ее, — сказал кузнец. — Замуж ее отдать — как будто еще жалко. Дома она — ни к чему, ни ткать, ни коров доить, ни гусей пасти. Одно — ей, — намять синей глины и — баловаться, — сделает кошку верхом на собаке или старуху с клюкой, как живую, это истинно… Налепит птиц, зверей, каких не бывает. Полна светелка этой чепухи. Пробовали выкидывать — крик, вопли. Рукой махнули…
— Боже мой, боже мой, — тихо проговорил Голиков, — надо же поскорее посмотреть это! — И, будто в священном ужасе, раскрыл глаза на кузнеца. Тот хлопнул себя по бокам, засмеялся. Ванюша и Степа сдержанно улыбнулись, хотя оба не прочь были также прыснуть со смеху. Дева в лубяном кокошнике принесла горшок топленого молока. Кондратий сказал ей:
— Машка, этот человек хочет посмотреть твоих болванчиков, для чего — не ведомо. Покажи…
Дева помертвела, горшок с молоком задрожал у нее в руках.
— Ой, не надо, не покажу! — поставила горшок на траву, повернулась и пошла, как сонная, — скрылась за кузницей. Тут уже все братья начали хвататься за бока, трясти волосами… Не смеялся один Голиков, — выставив нос, он глядел туда, где за углом кузницы скрылась дева. Гаврила сказал:
— Ну, как же, Кондратий Степанович, все-таки будем расплачиваться?
— Как расплачиваться? — Кузнец вытер мокрые глаза, расправил усы и уже задумчиво погладил бородку: — Увидишь царя Петру — передай ему поклон… Прибавь там от себя — чего полагается. И скажи, — Кондратий Воробьев просит-де на него не гневаться, глупее людей Кондратию Воробьеву не бывать… Государь ответ мой поймет…
За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры.
— Видишь, Андрюшка?
— Вижу…
— Москва…
— Гаврила Иванович, — это вроде — как знаменье… Радуга-то нам ее осветила…
— Сам не понимаю — с чего Москва так играет… А ты, чай, рад, что — в Москву-то?
— А то как же… И рад, и страшно…
— Приедем, — прямо в баню… Утречком сбегаю к князю-кесарю… Потом сведу тебя к царевне Наталье Алексеевне…
— Вот то-то и страшно…
— Слушай, ямщик, — сказал Гаврила на этот раз даже вкрадчиво, — погоняй, соколик, человечно прошу тебя, погоняй…
После дождя дорога была угонистая. Летели комья с копыт. Блестела листва на березах. Ветерок стал пахучий. Навстречу тянулись, пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой, или хромой лошадью, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью: до Москвы 34 версты… Опять у дороги — плохонькие избенки, стоявшие, которая — бочком, которая — задом, и за седыми ветлами на кладбище — облупленный шатер церквенки. И опять поперек улицы перед самой тройкой бежит голопузый мальчишка, закидывая волосы, будто он конь. Ямщик перегнулся, обжигая его кнутом по изъеденному комарами месту, откуда растут ноги, но тот — хоть бы что — только шмыгнул, провожая круглыми глазами тройку.
И опять — с горки на горку. Взглянешь направо, где сквозь кусты блестит речка, — бородатые мужики в длинных рубахах, один впереди другого, широко расставляя ноги, идут по лугу, враз взблескивают косами. Взглянешь налево — на лесной опушке, на краю тени, лежит стадо, и пастушонок бегает с кнутом за пегим бычком, а за ним, взмахивая из травы ушами, скачет умная собачка… Опять полосатый верстовой столб, — 31 верста… Гаврила застонал:
— Ямщик, ведь только три версты проехали…
Ямщик обернул к нему веселое лицо с беспечно вздернутым носом, который, казалось, только для того и пристроился между румяных щек, чтобы смотреться в рюмку:
— Ты, боярин, версты не по столбам считай, по кабакам их считай, в столбах верности нет… Гляди, — сейчас припустим…
Он вдруг вскрикнул протяжно: «Ой-ой-ой, лошадушки!» — откинулся, бросил вожжи, большеголовые разномастные лошаденки помчались вскачь, круто свернули и стали у кабака, у старой длинной избы с высокой вехой, торчавшей над воротами, и с вывеской, — для грамотных, — выведенной киноварью по лазоревому полю над дверью: «Къобакъ»…
— Боярин, что хочешь делай, кони зарезались, — весело сказал ямщик и снял с головы высокую войлочную шапку, — хочешь… до смерти бей, а лучше прикажи поднести зелененького.
Целовальник, одетый по-старинному, в клюквенном кафтане с воротником — выше лысины, уже вышел на гнилое крылечко, умильный, свежий, и держал на подносе три рюмки зеленого вина и три кренделя с маком для закуски… Делать нечего, пришлось вылезти из телеги, размяться…
К Москве стали подъезжать в сырые сумерки. Конца не было усадьбам, деревенькам, рощам, церковкам, заборам. Иногда дуга задевала за ветвь липы, и на седоков сыпались дождевые капли… Повсюду теплился свет сквозь пузырчатые стекла или слюдяные окошечки; на папертях еще сидели нищие; кричали галки в пролетах колоколен. Колеса загромыхали по деревянной мостовой… Гаврила, схватив ямщика за плечо, указывал — в какие сворачивать кривые переулки… «Вон, где человек у забора лежит, так напротив — в тупик… Стой, стой, приехали!..» Он выскочил из телеги и застучал в ворота, окованные, как сундук, полосами луженого железа. В ответ грохнули бешеным лаем, загремели цепями знаменитые бровкинские волкодавы.
Хорошо после долгого небывания приехать в родительский дом. Войдешь — все привычно, все по-новому знакомо. В холодных сенях на подоконнике горит свеча, здесь у стен — резные скамьи для просителей, чтобы сидели и ждали спокойно, когда позовут к хозяину; далее — пустые зимние сени с двумя печами, здесь свеча, отдуваемая сквозняком, стоит на полу, отсюда — налево — обитая сукном дверь в нежилые голландские горницы — для именитых гостей, дверь направо — в теплые низенькие покои, а — пойти прямо — начнешь блуждать по переходам, крутым лестницам вверх и вниз, где — клети, подклети, светлицы, чуланы, кладовые… И пахнет в родительском доме по-особенному, приятно, уютно… Люди — рады приезду, говорят и смотрят любовно, ждут исполнить желания…
Родителя, Ивана Артемича, дома не случилось, был в отъезде по своим мануфактурам. Гаврилу встретили ключница, дородная (как и полагалось ей быть), степенная женщина с тяжелой рукой и певучим голосом, старший приказчик, про которого Иван Артемич сам говорил, что это сатана, и, недавно нанятый за границей, мажордом Карла, фамилии его никто не мог выговорить, длинный и угрюмый мужчина со щекастым лицом, опухшим от безделья и русской пищи, с могучим подбородком, с нависшим лбом, оказывающим великий ум в этом человеке, лишь был у него изъян, — из-за него он и попал в Москву за сходное жалование, — вместо носа носил он бархатный черный колпачок и был несколько гнусав.
— Ничего не хочу, только в баню, — сказал им Гаврила. — К ужину чтоб студень был, да пирог с говядиной, да гусь, да еще чего-нибудь посытнее. В Питербурге на одной вонючей солонине да сухарях совсем отощали…