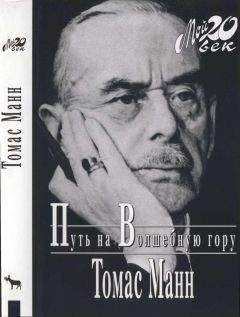Ознакомительная версия.
Но вернемся к нашему рассказу. Упомянутая молодая особа в роли Вальтера Телля выглядела очаровательно (на груди мальчика сверкала неизменная брошка) и играла так трогательно, что у гимназиста Будденброка от волнения выступили слезы на глазах; более того, ее игра подвигла его на поступок, который может быть объяснен только бурным порывом чувства. В антракте он сбегал в цветочный магазин напротив театра и приобрел за одну марку восемь с половиной шиллингов букет, с которым этот четырнадцатилетний ловелас, длинноносый и круглоглазый, проник за кулисы и, поскольку никто его не остановил, дошел до самых дверей уборной мадемуазель Мейер де ла Гранж, возле которых она разговаривала с консулом Дельманом. Консул чуть не умер от смеха, завидев Христиана, приближавшегося с букетом; тем не менее сей новый suitier, отвесив изысканный поклон Вальтеру Теллю, вручил ему букет и голосом, почти скорбным от полноты чувств, произнес:
– Как вы прекрасно играли, сударыня!
– Нет, вы только полюбуйтесь на этого Кришана Будденброка! – воскликнул консул Дельман, по обыкновению растягивая гласные.
А мадемуазель Мейер де ла Гранж, высоко подняв хорошенькие бровки, спросила:
– Как? Это сын консула Будденброка? – и весьма благосклонно потрепала по щечке своего нового поклонника.
Всю эту историю Петер Дельман в тот же вечер разгласил в клубе, после чего она с невероятной быстротой распространилась по городу и дошла до ушей директора гимназии, который в свою очередь сделал ее темой разговора с консулом Будденброком. Как тот отнесся ко всему происшедшему? Он не столько рассердился, сколько был потрясен и подавлен. Рассказывая об этом консульше в ландшафтной, он выглядел вконец разбитым человеком.
– И это наш сын! И так идет его развитие!..
– Боже мой, Жан, твой отец просто бы посмеялся!.. Не забудь рассказать об этом в четверг у моих родителей. Папа будет от души веселиться.
Тут уж консул не выдержал:
– О да, я убежден, что он будет веселиться, Бетси. Он будет радоваться, что его ветреность, его легкомысленные наклонности передались не только Юстусу, этому suitier, но и внуку… Черт возьми, ты вынуждаешь меня это высказать! Мой сын отправляется к такой особе, тратит свои карманные деньги на лоретку! Он еще сам не осознает этого, нет, но врожденные наклонности сказываются, – да, да, сказываются…
Что и говорить, пренеприятная вышла история. И консул тем более возмущался, что и Тони, как мы говорили выше, вела себя не вполне благонравно. Правда, с годами она перестала дразнить бледного человека и заставлять его дрыгать ногой, так же как перестала звонить у дверей старой кукольницы, но она откидывала голову с видом все более и более дерзким и все больше и больше, в особенности после летнего пребывания у старых Крегеров, впадала в грех высокомерия и суетности.
Как-то раз консул очень огорчился, застав ее и мамзель Юнгман за чтением «Мимили» Клаурена[49]; он полистал книжку и, ни слова не говоря, раз и навсегда запер ее в шкаф. Вскоре после этого выяснилось, что Тони – Антония Будденброк! – отправилась, без старших, вдвоем с неким гимназистом, приятелем братьев, гулять к Городским воротам, фрау Штут, та самая, что вращалась в высших кругах, встретила эту парочку и, зайдя к Меллендорфам на предмет покупки старого платья, высказалась о том, что вот-де и мамзель Будденброк входит в возраст, когда… А сенаторша Меллендорф самым веселым тоном пересказала все это консулу. Таким прогулкам был положен конец. Но вскоре обнаружилось, что мадемуазель Тони достает любовные записочки – все от того же гимназиста – из дупла старого дерева у Городских ворот, пользуясь тем, что оно еще не заделано известкой, и, в свою очередь, кладет туда записочки, ему адресованные. Когда все это всплыло на свет божий, стало очевидно, что Тони необходим более строгий надзор, а следовательно – нужно отдать ее в пансион мадемуазель Вейхбродт, Мюлленбринк, дом семь.
Тереза Вейхбродт была горбата, – так горбата, что, стоя, едва возвышалась над столом. Ей шел сорок второй год, но она не придавала значения внешности и одевалась, как дама лет под шестьдесят или под семьдесят. На ее седых, туго закрученных буклях сидел чепец с зелеными лентами, спускавшимися на узкие, как у ребенка, плечи; ее скромное черное платьице не знало никаких украшений, если не считать большой овальной фарфоровой брошки с портретом матери.
У маленькой мадемуазель Вейхбродт были умные, пронзительные карие глаза, нос с горбинкой и тонкие губы, которые она порою поджимала с видом решительным и суровым. Да и вообще вся ее маленькая фигурка, все ее движения были полны энергии, пусть несколько комичной, но бесспорно внушающей уважение. Этому немало способствовала и ее манера говорить. А говорила она быстро, резко и судорожно двигая нижней челюстью и выразительно покачивая головой, на чистейшем немецком языке, и вдобавок старательно подчеркивая каждую согласную. Гласные же она произносила даже несколько утрированно, так что у нее получалось, к примеру, не «бутерброд», а «ботерброд» или даже «батерброд»; да и свою капризную, брехливую собачонку окликала не «Бобби», а «Бабби». Когда она говорила какой-нибудь из пансионерок: «Не будь же гак гл-о-опа, дитя мое», и при этом дважды ударяла по столу согнутым в суставе пальцем, то это неизменно производило впечатление; а когда мадемуазель Попинэ, француженка, клала себе в кофе слишком много сахара, Тереза Вейхбродт, подняв глаза к потолку и побарабанив пальцами по столу, так выразительно произносила: «Я бы уже сразу взе-ела всю сахарницу», что мадемуазель Попинэ заливалась краской.
Ребенком – бог ты мой, до чего же она, вероятно, была мала ребенком! – Тереза Вейхбродт называла себя Зеземи, и это имя за ней сохранилось, ибо самым лучшим и прилежным ученицам, равно живущим в пансионе и приходящим, разрешалось так называть ее.
– Называй меня Зеземи, дитя мое, – в первый же день сказала она Тони Будденброк, запечатлев на ее лбу короткий и звонкий поцелуй. – Мне это приятно!
Старшую сестру Терезы Вейхбродт, мадам Кетельсен, звали Нелли.
Мадам Кетельсен, особа лет сорока восьми, оставшись после смерти мужа без всяких средств, жила у сестры в маленькой верхней комнатке и ела за столом вместе с пансионерками. Одевалась она не лучше Зеземи, но, в противоположность ей, была необыкновенно долговяза; на ее худых руках неизменно красовались напульсники. Не будучи учительницей, она не имела понятия о строгости, и все существо ее, казалось, было соткано из кроткой и тихой жизнерадостности. Если какой-нибудь из воспитанниц случалось напроказить, она разражалась веселым, от избытка добродушия, почти жалобным смехом, и смеялась до тех пор, покуда Зеземи, выразительно стукнув по столу, не восклицала: «Нелли» – что звучало как «Налли».
Мадам Кетельсен беспрекословно повиновалась младшей сестре и позволяла ей распекать себя, как ребенка, Зеземи же относилась к ней с нескрываемым презрением. Тереза Вейхбродт была начитанной, чтобы не сказать ученой девицей; ей пришлось приложить немало усилий, дабы сохранить свою детскую веру, свое бодрое, твердое убеждение, что на том свете ей воздается сторицей за ее трудную и серую земную жизнь. Мадам Кетельсен, напротив, была невежественна, неискушена и простодушна.
– Добрейшая Нелли, – говорила Зеземи, – бог мой, да она совершенный ребенок! Ни разу в жизни ею не овладевало сомнение, никогда она не ведала борьбы, счастливица…
В этих словах заключалось столько же пренебрежения, сколько и зависти, – кстати сказать, чувство зависти было дурным, хотя и простительным свойством характера Зеземи.
Во втором этаже красного кирпичного домика, расположенного в предместье города и окруженного заботливо выращенным садом, помещались классные комнаты и столовая; верхний этаж, а также мансарда были отведены под спальни. Воспитанниц у мадемуазель Вейхбродт было немного; она принимала только девочек подростков, ибо в ее пансионе имелось лишь три старших класса – для живущих и для приходящих учениц. Зеземи строго следила за тем, чтобы к ней попадали девицы лишь из бесспорно высокопоставленных семейств.
Тони Будденброк, как мы уже говорили, была принята с нежностью; более того – в честь ее поступления Тереза сделала к ужину бишоф – красный и сладкий пунш, подававшийся холодным, который она приготовляла с подлинным мастерством: «Еще бишафа?» – предлагала она, ласково тряся головой. И это звучало так аппетитно, что никто не мог отказаться.
Мадемуазель Вейхбродт, восседая на двух жестких диванных подушках во главе стола, осмотрительно и энергично управляла трапезой. Она старалась как можно прямее держать свое хилое тельце, бдительно постукивала по столу, восклицала: «Налли!», «Бабби!» – и уничтожала взглядом мадемуазель Попинэ, когда та еще только собиралась положить себе на тарелку все желе от холодной телятины. Тони посадили между двумя другими пансионерками: Армгард фон Шиллинг, белокурой и пышной дочерью мекленбургского землевладельца, и Гердой Арнольдсен из Амстердама, выделявшейся своей изящной и своеобразной красотой: темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза и прекрасное белое, немного надменное лицо. Напротив нее неумолчно болтала француженка, которую огромные золотые серьги делали похожей на негритянку. На нижнем конце стола, с кислой улыбкой на устах, сидела мисс Браун, сухопарая англичанка, тоже проживавшая у мадемуазель Вейхбродт.
Ознакомительная версия.