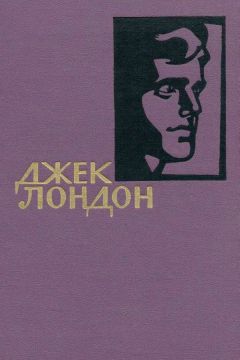Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача, и, стоя на вахте или у рулевого колеса, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.
У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные места трагедий производили на него такое впечатление, что он запоминал их без всякого труда, и некоторое время весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли его сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.
Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он научился правильно говорить и думать, и он лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой — чувствовал в себе великие силы Он видел огромную разницу между собою и своими товарищами, но не мог понять, что разница эта лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но внутри него происходила какая-то работа, говорившая ему, что он способен на большее. Он был восхищен красотою мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотою вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, и ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея: он будет писать. Он будет одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир слышит, он будет из тех сердец, которыми мир чувствует. Он будет писать все, поэзию и прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это — путь к сердцу Руфи. Ведь писатели — гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Бэтлеру, который получает тридцать тысяч в год и мог бы стать членом верховного суда, если б захотел.
Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и обратное его путешествие в Сан-Франциско было подобно сну. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. В спокойном уединении Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь, и тот круг, в котором она жила. Эти видения облеклись в его уме в конкретную форму, он мог как бы брать их руками, повертывать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию, ходившую на поиски клада. Он пошлет рассказ в какой нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом, в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он хотя бы заработает своим писанием достаточно для того, чтоб продолжать учение. А потом, через некоторое время, — очень неопределенное время, — когда он выучится и подготовится, он начнет писать великие вещи, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, — это что тогда он станет, наконец, достойным Руфи. Слава хороша и сама по себе, но не ради нее, а ради Руфи возникли в нем эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.
Явившись в Окленд с набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и уселся за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об искателях сокровищ. Это намерение он осуществлял без труда, потому что был всецело охвачен творческой лихорадкой. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть рассказ, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем два столбца в воскресном приложении к «Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать, — и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка, все время справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его в трубку, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать в трубку и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба пункта закона. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же — сто долларов, — и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня! Ему бы пришлось три месяца скитаться по морям, чтобы заработать подобную сумму. Надо быть дураком, чтобы плавать на судах, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они могли дать ему досуг, возможность купить приличный костюм, а все это вместе взятое должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.
Мартин вложил рукопись в большой конверт, запечатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пятницу, то ожидал появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем он уже носился с новой идеей, которая казалась ему необыкновенно удачной, правильной, здравой и непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутник юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.
Мартин однажды плавал в Северном Ледовитом океане на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, вследствие кораблекрушения. Хотя он и обладал пылким воображением, но фантазию его всегда питала любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключениях двух мальчиков, которые должны были стать его героями. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама целый ряд насмешек над «писакой», объявившимся в их семье.
Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром был уже на улице, ожидая появления газеты.
Просмотрев номер внимательно несколько раз, он сложил его и положил на место, радуясь, что никому ничего не сказал о свой попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно быстроты, с которой рассказы появляются в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.
После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться ей словарем или учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает в это время правила сочинения и учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно: он мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей — что особенно заинтересовало его — минимальная ставка в первоклассных журналах два цента «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов — заработок за два месяца плавания.