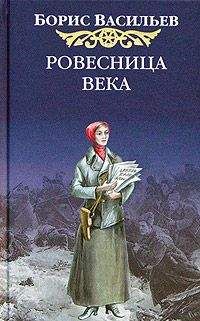Бабе Лере стало вдруг невыносимо стыдно за пафосность собственных мыслей. Она засмущалась, завздыхала, заворочалась, окончательно отгоняя не только остатки сна, но и отголоски сновидений. Небо быстро светлело, туман редел, рвался, прижимался к земле, на глазах уползая в болото. Баба Лера поднялась, подвигалась, поизгибалась, потопала по хрустящей постели своей толстыми, Анишиной вязки, чулками, разминая затекшее тело и согреваясь. Затем умылась росой, растерлась платком докрасна и неторопливо, со вкусом позавтракала морошкой. Вытряхнула из сапог набивку — внутри было почти сухо, обулась и легко встала на ноги вместе с солнышком. Огляделась и неожиданно для себя самой решила: «Сюда». Подняла корзину и пошла напрямик, твердо зная, что выйдет к людям.
— Я вынесла три истины из той ночи, — рассказывала баба Лера. — Первая, самая главная: из России невозможно выйти, и в какую бы ты сторону ни шел, она всегда будет вокруг тебя.
— Резонный парадокс. А вторая, Калерия Викентьевна, о чем будет истина?
— Вторая и третья более прагматические. Мы отвергли старую культуру во всех ее проявлениях, кроме реалистического искусства, но мы не вправе ее забывать. А это значит, что нам следует стать просвещенными атеистами, отрицающими Бога, но признающими ценности рожденного религией искусства — таков второй постулат. А третий, возможно, покажется вам спорным: только истинно верующие люди способны на подвиг, и чем выше и чище их вера, тем выше и благороднее будет их подвиг. Мы заменили веру учением, но это, как мне кажется, неадекватная замена. Отсюда вывод: нам нужна новая вера. Не религия — вера.
— Ох, как я вас понимаю! — вздыхает Владислав Васильевич, как-то особо значительно поглядывая при этом на меня.
Мы сидим втроем: Анисья еще утром ушла в Красногорье за продуктами и, судя по всему, явится навеселе. А сейчас — тихий вечер, переливы красок в спокойной Двине, далекий пароходный гудок
— «Иван Каляев» идет, — почему-то объявляю я.
— Матушка говорила, что была знакома с Каляевым. — И снова в голосе Калерии Викентьевны мне отчетливо слышится странная печаль. — Она всегда называла его только по имени, только Ваней, а познакомились они в Москве, в дни коронации, на которые гимназист Каляев тайком приехал из Нижнего. И мама была свято убеждена, что Каляев не убивал великого князя Сергея Александровича, а лишь казнил его за ходынский ужас.
— Странный парадокс истории, — каюсь, я тогда сморозил глупость. — Рядовой эсеровский боевик удостоен почета и бессмертия, тогда как его непосредственный руководитель и организатор покушения на великого князя Борис Савинков — бесчестья.
— Не окажись Савинков по ту сторону баррикад… — начинает Владислав, но тут же меняет собственное объяснение: — Право суда принадлежит победителям. Это аксиома истории.
— Это — наше объяснение, а не аксиома, Владислав Васильевич. — Баба Лера несогласно трясет головой. — А суть, как мне кажется, в том, что мы воспринимаем Ивана Каляева прежде всего как искренне уверовавшего и во имя этой веры идущего на смерть. А в его руководителе видим лишь пастыря, то есть человека, волей своей направляющего искреннюю, а потому и святую веру исполнителя. Людям органически свойственно поклоняться подвигам и заведомо настороженно, если не недоверчиво, относиться к тем, кто вкладывал в руки героя оружие и подталкивал его. Заметьте, люди никогда не приходят в ажиотацию по рациональным поводам: эмоции управляются только иррациональным началом. И поэтому я категорически продолжаю утверждать, что нам необходима новая вера. Необходима!
— Я понимаю, — вторично признается Владислав и вторично поглядывает на меня с особым значением.
Странное дело: мгновенно и естественно найдя общий язык с Анисьей, Владислав так и не смог побороть в себе скованности и, как мне всегда казалось, смутной виноватости в общении с бабой Лерой. Он очень редко спорил с нею, предпочитая соглашаться или молчать, а ведь имел и собственное мнение, и убежденность, и вполне достаточную эрудицию. Он и со мною-то начал спорить не сразу, а накопив определенную сумму впечатлений обо мне и как бы перешагнув некий рубеж в наших отношениях. В частности, именно потребность веры как естественного стремления к определенному порядку свыше его тревожила постоянно, недаром он так выразительно поглядывал на меня: мы много раз говорили об этом.
— Понимаешь, наше поколение впрямую столкнулось с культом личности. Ну, скажем, один факт я могу еще хоть как-то объяснить — культ Сталина. Личность незаурядная, сильная, жестокая сумела оценить сложившуюся после смерти Ленина внутрипартийную обстановку: растерянность, групповщина, борьба амбиций, оппозиций и прочее. Сумела воспользоваться «капризом истории», как любит говорить наша баба Лера. Да плюс — война, в которой, заметь, резко возрастает сталинский авторитет во всех слоях, от солдата до маршала. Но это — Сталин, черный гений страны, диалектический антипод Владимира Ильича в полном соответствии с диалектикой как основополагающим нашим учением. А остальные культы да культики? Один объяснимый да куча нелогичных — это тебе уже не случайность. Это закономерность, — хотим мы признавать ее или не хотим, но она объективно существует. Согласен?
— Не допустим.
— А коль допустил такое, изволь объяснить. Изволь поднатужиться, поразмышлять и вывести некий закон.
— Неутешительный это закон, — сказал я ему тогда. — Выходит, что мы чуть ли не фатально обречены на развитие через культ личности.
— Вот! — Владислав резким жестом обрубает мое неуверенное бормотание. — А почему? А потому, что народу необходима вера. Вера на этом этапе общего нашего развития важнее знаний, потому что для знаний у нас фундамент жидковат: в подавляющем большинстве мы ведь еле-еле из ликбезов вылезли и во всех взаимосвязях закон развития общества постичь пока не можем. А в Бога уже не веруем — получаются ножницы, необъяснимая для народа пустота. И чтобы не задохнуться в этой пустоте, чтобы направление движения не утратить, народ инстинктивно жаждет веры в авторитет вождя, в его непогрешимость, абсолютные знания во всех решительно областях и почти что священные обобщения. Вот истоки нашей потребности в культе личности, понял? Невозможно жить, ни во что не веруя при этаких-то жертвах, что понесли мы, вот народ вместо свергнутого Бога и ищет его вполне материалистическую земную ипостась…
Владислав любит собственные гипотезы, с удовольствием излагает их, но при бабе Лере помалкивает. И тогда я вкратце пересказываю суть его объяснений. Естественно, от собственного имени.
— Парадоксально, но абсолютно антинаучно, — сурово изрекает Калерия Викентьевна. — Вы почему-то исключили наиболее активную силу из своих рассуждений: партию. А партия могуча коллективным разумом, и она не допустит антинаучного развития общества. Я говорила о вере. Просто о вере. О святой убежденности каждого, что прожитая нами жизнь прожита не зря, не напрасно, что в общем своем потоке она подчиняется законам нашего учения и что, следовательно, задача в том, чтобы донести эту убежденность до масс, и в первую очередь — заразить ею молодежь.
С этого вечера, с этого неторопливого разговора, подсвеченного красками северного заката и озвученного стонущим воплем «Ивана Каляева», и началась бурная («миссионерско-пионерская», по определению Владислава) деятельность бабы Леры. До этого она не только не стремилась к детям — она сторонилась их; понадобилось качественное изменение ее взглядов на мир, Россию, историю («прозрение», как она сама определила), чтобы Калерия Викентьевна перестала замыкаться в себе самой со своими мыслями. Понадобилось заблудиться, чтобы выйти к людям, и это было еще одним превращением Калерии Викентьевны Вологодовой в простую, почти сельскую если не жительницу, то учительницу бабу Леру.
— Самой трудной была первая встреча, — вспоминала она часто. — Не потому, что «первая», поймите, а потому, что пришла я не в учреждение, не в школу — я пришла непосредственно к детям, которых по моей просьбе собрали с помощью Владислава Васильевича. Случилось это на окраине Красногорья, а потом дети стали сами приходить ко мне, и мы жгли костры во-он на той возвышенности, что на берегу. Там теперь Аниша моя лежит, на месте тех костров…
Мы сидим на крыльце, где так любила по старой, может быть, еще детской привычке сидеть Анисья. Это наша последняя встреча, но мы еще не знаем об этом — ни я, ни баба Лера. Не знаем, хотя уже нет ее Аниши, умершей в начале года, и нет Грешника, навеки шагнувшего за порог. С той поры баба Лера живет одна, если — со вскрытия Двины — не считать случайных гостей, регулярных, хотя и не частых, наездов Владислава да моего месячного отпуска.
— Как же она одна-то следующую зиму переживет, Владислав?
— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Сейчас старушка внучатами занята, а разъедутся внучата к сентябрю, и перевезу я ее к бабе Лере. С ней детально все обговорено, но баба Лера ничего не знает, и ты, гляди, не проговорись: я не сюрприз ей хочу сделать, я врасплох ее захватить хочу, а то ведь и закапризничать может, если мы ей время на размышления оставим.