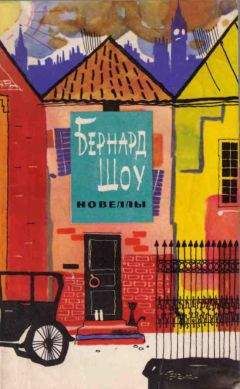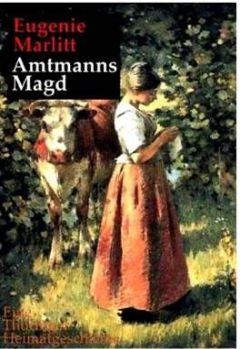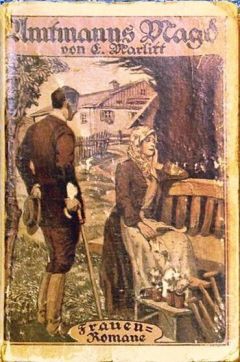— Ах, если б я мог знать! — воскликнул несчастный Крогстад, прикрываясь руками от ее слов, как от ударов. — Я сказал бы ей все. Но откуда мне было знать, что такое, казалось бы, пустячное дело было для нее настоящим переломом — вопросом жизни и смерти — решающим испытанием? Она восприняла это спокойно.
— Возможно, ее утешила перспектива получить воздаяние на небесах, которое вы сулили, — вы, устроивший себе столь уютное гнездышко на земле, — сказала Нора с мимолетной иронией. — Но боюсь, — добавила она, — что бедной, доверчивой девочке противоречие между христианским милосердием ваших речей и жестокостью ваших поступков показалось слишком уж вопиющим. Вы разбили ее веру в будущую жизнь. И доказательство тому ее самоубийство, доказательство настолько неопровержимое, что даже Кристина не решится против него спорить. Поймите, Нильс, вы привыкли считать за людей лишь тех, кто принадлежит к вашему узкому добропорядочному кругу, все остальные для вас — низшие существа, а чужие дела вы считаете пустячными, и это делает вас слепцом, не дает видеть те великие возможности, которые открывает мир свободы, где живут и эти низшие существа. Хейердаля вы никогда не отшвырнули бы прочь, как вексель без обеспечения.
— Продолжайте, — упрямо сказал Крогстад. — Говорите что угодно. Я жалкий червь, я неудачник. Неудачи преследовали меня всю жизнь. Лучше бы мне вовсе не встретиться с моей распроклятой женой.
— Ах, полно вам! — сказала Нора резко. — Вы вашей жене в подметки не годитесь. Она следовала своим убеждениям. Если бы вы следовали своим, вместо того чтобы поддакивать ей, вам не пришлось бы теперь сетовать на свои неудачи. Кристина — человек недалекий, у нее низменные идеалы; но она хотя бы сознает это. У вас идеалы более возвышенные, но вы этого никогда не сознавали — никогда даже не имели о них представления, — только ощущали смутный протест против золотого тельца, которым вы их подменили. Поэтому она достигла успеха, а вы потерпели неудачу; но могу сказать вам в утешение, что вы с вашими неудачами скорей спасете душу, чем она со своим успехом.
— Мои неудачи и породили ее успех, — сказал Крогстад с горечью. — Чем была бы она без меня? Гувернанткой, которой грош цена.
— В этом главное несовершенство брака, Крогстад: он всегда либо превращает в жертву одного из супругов, либо губит обоих. Торвальд наслаждался успехом до тех порг пока я терпела неудачу. Но не всегда жертвой бывает женщина. Двадцать лет назад, когда я ушла из кукольного дома, я видела лишь одну сторону медали.
— Неужели вы хотите сказать, что были неправы? — быстро спросил Крогстад с комичным разочарованием.
— Нет, — спокойно ответила Нора. — Но я не понимала, что мужчине тоже нужно уйти из кукольного дома. В тот вечер, после праздничного бала и тарантеллы, глаза у меня открылись всего на каких-нибудь пять минут; и, конечно, я не успела увидеть ничего, кроме удручающего обстоятельства, что я для Торвальда лишь игрушка. А теперь глаза у меня открыты вот уже двадцать лет, и за это время я заглянула во множество кукольных домов; и мне пришлось убедиться, что не все куклы принадлежат к женскому полу. Взять хотя бы вашу семью! Право же, Крогстад, будь у вас хоть капля мужества, вы ушли бы на волю, где вы уже не кукла, а «властелин души своей»,[11] как сказал один английский поэт. Ваша жена поступает с вами точно так же, как Торвальд поступал со мной: принуждает делать то, что, по ее мнению, приличествует директору байка и мэру, а Торвальд принуждал меня делать то, что, по его мнению, приличествовало благородной супруге уважаемого банкира. Я чувствовала, что могу обрести для себя нечто более возвышенное; я ушла и обрела то, чего хотела.
— А я вот, — сказал Крогстад, — не чувствую, что могу обрести нечто более возвышенное, хотя знаю, что оно существует. Предоставленный самому себе, я скорей опустился бы на дно: пожалуй, начал бы пить, как Хельмер, или же докатился бы до грязной богемы и в результате стал бы еще ленивей, чем сейчас, а во всем остальном ничуть не лучше. Нет, отрицать бесполезно, Кристина подняла меня на высоту положения, какой я никогда не достиг бы без нее.
— Да, милый Нильс; но вы убили Эмми, а если б вы погрязли в богемной жизни, этого, вероятно, не случилось бы.
— Ваша правда, — сказал Крогстад, вздрогнув, но с твердостью выдержал упрек. — Когда Кристина в очередной раз вздумает читать мне мораль, я напомню ей об этом, и она заткнется.
— До чего же вы эгоистичны, Нильс! — сказала Нора кротко. — Теперь, когда потрясение от смерти бедной девочки прошло, это трогает вас не больше, чем неприятности какого-нибудь торговца, которому вы отказали в ссуде.
— Вы ее мать, — возразил он, — и даже вас это как будто не слишком трогает.
— Меня ее жизнь печалила едва ли не сильнее смерти, Нильс. А боль разлуки с нею я пережила много лет назад, когда была куклой, а она — игрушкой, забавлявшей меня. Мне пришлось бы стать Кристиной с ее лицемерным чувством долга, чтобы притворяться, будто я скорблю о том, без чего обходилась двадцать лет. А ведь все это время в сердце моем не было пустоты. Мне думается, вы не верите в теорию Кристины, согласно которой привязанности всякой женщины от природы распределены в строгой зависимости от степени родства, и с тех пор, как я ушла от Торвальда, в сердце моем царила тоскливая пустота, а в жизни не было любви к детям и волнующей заботы о будущности тех, которые слишком молоды, чтобы возбуждать в нас зависть или задевать наше честолюбие. С тех пор как я стала свободна, мне предостаточно довелось испытать любовь детей всякого возраста. Ведь у меня ваша душа находит отдых от Кристины, правда? Кстати, вы не забыли, что уже поздно?
Крогстад поспешно взглянул на часы, потом тотчас взялся за шляпу и плащ. Одевшись, он помедлил и сказал нерешительно:
— Надеюсь, в городе не станут винить меня?
— А если и станут, Нильс? Четыре пятых его жителей — это труженики, которым нет дела до вас и наших обстоятельств, к тому же мнение их вы презираете. А в вашем кругу, по тайному сговору, все готовы выставлять вас как образец добродетели: разумеется, при условии взаимности. Я же не участвую в этом сговоре; поэтому меня выставляют как образец порочности. Любимый проповедник Кристины написал трактат, где утверждает, что мои друзья посещают меня, дабы вести со мной греховные разговоры, и я виновата в том, что Торвальд спился; вероятно, он пришел к такому выводу потому, что бедняга Торвальд начал прикладываться к бутылке, когда я отняла у него куклу. Его преподобие сокрушается о несправедливости людских дел, поскольку по закону об авторском праве он не может дважды получать гонорары за свои трактаты, здесь и в Америке. Он и Кристина сумеют вас защитить. Ведь это она сообщила мне о судьбе Эмми; да еще изрекла обычным своим мелодраматическим тоном: «Зпай, порочная женщина: ныне твоя рука довершила погибель», — и прочее, в том же духе. Вам нечего бояться, Нильс: весь мир уже оповещен о том, что повинна одна я, и завтра вы будете усерднее всех качать головой, сокрушаясь о моей испорченности, как и подобает мэру города.
— Нет, Нора, этого не будет, — сказал он с возмущением. — Как можете вы столь дурно обо мне думать?
— Что ж, если я ошибаюсь, у вас будет случай мне это доказать… завтра. Но если я не ошибаюсь…
— Вот увидите, — перебил он ее с горячностью.
— Если я не ошибаюсь, — продолжала она спокойно — приходите ко мне опять каяться, когда вас замучит совесть; и я отпущу вам грехи. Но, быть может, теперь вы побоитесь прийти, поскольку убедились, что об этом знают все, кроме Кристины?
— Доброй ночи, — только и сказал он в ответ.
— Доброй ночи, — отозвалась она. — Бедный старина Крогстад!
Он выбежал за дверь, словно обиженный мальчишка; а она села за письменный стол и стала заканчивать работу. Но через мгновение она вновь обернулась на его шаги, увидела в дверях обиженное лицо и услышала:
— Вам легко говорить, что, будь у меня хоть капля мужества, я поступил бы, как вы, бросил бы жену и семью. Женщина может позволять себе подобные вещи и выглядеть при этом героиней, если она хороша собой. Но те же люди, которые превозносят ваш героизм, вместе с людьми моего круга станут поносить меня, как последнего негодяя, если я такое сделаю; и если Кристина уйдет от меня, они опять-таки в один голос скажут, что виноват я, что я, по-видимому, дурно с ней обращался. Нет, мы, а по вы порабощены браком.
— Охотно верю вам, Нильс, — сказала она, взглянув на него со снисходительным любопытством. — Ведь господин хуже всякого раба.
— Тьфу! — пробормотал Крогстад. — Спорить с женщиной — пустое дело.
И он исчез.
Слышно было, как хлопнула входная дверь.
1890
Как-то в чудесный день недавно скончавшегося злосчастного и бесславного девятнадцатого века я оказался на озере Комо — тело мое нежилось в лучах итальянского солнца и в блеске итальянских красок, а мысли беспокойно обращались к оборотной — человеческой — стороне всей этой прелести.