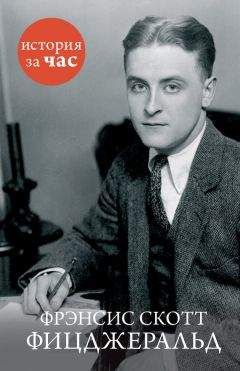— О Дик! — В голосе Мэри прозвучал испуг. Розмэри впервые увидела у Дика такое лицо — пустое, лишенное всякого выражения; она чутьем поняла, что сказанная им фраза несла в себе что-то значительное, даже зловещее, и чуть не крикнула вслед за Мэри: «О Дик!»
Но Дик опять весело рассмеялся.
— Брошу этот и примусь за другой, — добавил он и встал из-за стола.
— Нет, нет, Дик, погодите минутку. Я не понимаю…
— Объясню в другой раз. Спокойной ночи, Эйб. Спокойной ночи, Мэри.
— Спокойной ночи, Дик, милый.
Мэри улыбалась так, будто не могло быть ничего лучше предстоящего ей ночного бдения на полупустом поплавке. Она была мужественная, умевшая надеяться женщина, готовая следовать за мужем невесть куда, переламывая себя то на один, то на другой манер, но ни разу ей не удалось хоть немного увести его в сторону от его пути; и порой она, почти теряя мужество, думала о том, что секрет этого пути, от которого зависел и ее путь, запрятан в нем глубоко-глубоко и недоступен ей. И, однако, она всегда излучала надежду, словно некий живой талисман…
— Что это вы такое собираетесь бросить? — уже в такси спросила Розмэри, вскинув на Дика большие серьезные глаза.
— Ничего существенного.
— Вы разве ученый?
— Я врач.
— Да ну? — Она вся просияла. — Мой папа тоже был врач. Но тогда почему же вы… — Она запнулась и не кончила фразы.
— Не беспокойтесь, тут нет роковой тайны. Я не опозорил себя изменой врачебному долгу и не укрылся на Ривьере от людского суда. Просто я сейчас не занимаюсь практикой. Может быть, со временем займусь опять.
Розмэри медленно подняла к нему лицо для поцелуя. Он посмотрел на нее с недоумением. Потом, полуобняв ее за плечи, потерся щекой о ее бархатистую щеку к опять посмотрел долгим, внимательным взглядом.
— Такая прелестная девочка, — сказал он раздумчиво.
Она улыбнулась, глядя на него все так же снизу вверх, пальцы ее машинально играли лацканами его пиджака.
— Я влюблена в вас и в Николь. Это мой секрет — я даже ни с кем не могу говорить про вас, не хочу, чтобы еще кто-нибудь знал, какой вы замечательный. Нет, правда, правда, я вас люблю — вас обоих.
…Сколько раз уже он это слышал — даже слова те же самые…
Вдруг она очутилась так близко, что ее полудетские черты расплылись перед его глазами, и он поцеловал ее захватывающим дух поцелуем, как будто у нее вовсе не было возраста.
Она откинулась на его руку и вздохнула.
— Я решила от вас отказаться, — сказала она.
Дик вздрогнул, — кажется, он ничем не дал ей повода почувствовать хоть малейшее право на него.
— Вот уж это безобразие, — нарочито весело сказал он. — Как раз когда я почувствовал некоторый интерес.
— Я так вас любила… — Будто это длилось годы. В голосе у нее дрожали слезы. — Я так вас люби-и-ила…
Ему бы надо было в ответ посмеяться, но вместо того он услышал будто сами собой сказавшиеся слова:
— Вы не только красивая, вы какая-то очень полноценная. У вас все выходит по-настоящему, изображаете ли вы несуществующую любовь или несуществующее смущение.
Снова она придвинулась ближе в темной пещерке такси, пахнущей духами, купленными по выбору Николь. Он поцеловал ее поцелуем, лишенным всякого вкуса. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом; ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти. Ее дыхание чуть-чуть отдавало шампанским. Она еще тесней прижалась к нему, словно в порыве отчаяния, и он поцеловал ее еще раз, но его расхолаживала невинность этих губ, этого взгляда, устремленного мимо него в темноту ночи, темноту вселенной. Она не знала еще, что блаженство заключено внутри нас; когда-нибудь она это поймет и растворится в страсти, движущей миром, и если бы он тогда оказался рядом с ней, он взял бы ее без сомнений и сожалений.
Ее номер в отеле был наискосок от номера Дайверов, ближе к лифту. Дойдя до своей двери, она вдруг сказала:
— Я знаю, что вы меня не любите, — я на это и не надеялась. Но вы меня упрекнули, зачем я не сказала про свой день рождения. Вот теперь вы знаете, и я хочу, чтобы вы мне сделали подарок к этому дню — зайдите на минутку ко мне в комнату, я вам скажу что-то. На одну минутку только.
Они вошли, и, притворив за собой дверь, он повернулся к Розмэри; она стояла совсем близко, но так, что они не касались друг друга. Ночь стерла краски с ее лица, оно теперь было бледнее бледного — белая гвоздика, забытая после бала.
— Когда вы улыбаетесь… — Он опять обрел свой шутливо-отеческий тон, быть может, благодаря неосязаемой близости Николь, -…когда вы улыбаетесь, мне всегда кажется, что я увижу у вас щербинку во рту на месте выпавшего молочного зуба.
Но он опоздал — она шагнула вплотную к нему и жалобно прошептала:
— Возьмите меня.
— Взять вас — куда?
Он оцепенел от изумления.
— Я вас прошу, — шептала она. — Сделайте со мной — ну все как есть.
Ничего, если мне будет неприятно, — наверно будет, — мне всегда было противно даже думать об этом, — но тут совсем другое дело. Я хочу, чтоб вы это сделали.
Для нее самой было неожиданностью, что она способна на такой разговор.
Отозвалось все, о чем она читала, слышала, грезила в долгие годы ученья в монастырской школе. К тому же она каким-то чутьем понимала, что играет сейчас самую свою триумфальную роль, и вкладывала в нее все силы души.
— Что-то вы не то говорите, — попробовал урезонить ее Дик. — Не шампанское ли тут виновато? Давайте-ка замнем этот разговор.
— Ах, нет, нет! Я прошу вас, возьмите меня, научите меня. Я ваша и хочу быть вашей совсем.
— Прежде всего, подумали ли вы, как больно было бы Николь?
— Она не узнает — к ней это не имеет отношения.
Он продолжал мягко и ласково.
— Потом вы забываете, что я люблю Николь…
— А разве любить можно только кого-то одного? Ведь вот я люблю маму и люблю вас — еще больше, чем ее. Теперь — больше.
— …и наконец, никакой любви у вас сейчас ко мне нет, но она могла бы возникнуть, и это изломало бы вашу жизнь в самом ее начале.
— Но мы потом уже никогда не увидимся, обещаю вам. Я вызову маму, и мы с ней уедем в Америку.
Эту мысль он отогнал. Ему слишком хорошо помнилась юная свежесть ее губ. Он переменил тон.
— Все это — настроение, которое скоро пройдет.
— Нет, нет! И я не боюсь, если даже будет ребенок. Поеду в Мексику, как одна актриса с нашей студии. Ах, я никогда не думала, что со мной может быть так, мне всегда только противно бывало, когда меня целовали всерьез.
Ясно было, что она все еще верит, что это должно произойти. — У некоторых такие большие острые зубы, но вы совсем другой, вы красивый и замечательный. Ну, пожалуйста, сделайте это…
— А, я понял — вы просто думаете, что есть особого рода поцелуи, и хотите, чтобы я вас поцеловал именно так.
— Зачем вы смеетесь надо мной — я не ребенок. Я знаю, что у вас нет ко мне любви. Я на это и не рассчитывала. — Она вдруг присмирела и сникла. — Наверно, я вам кажусь ничтожеством.
— Глупости. Но вы мне кажетесь совсем еще девочкой. — Про себя он добавил: «…которую слишком многому пришлось бы учить».
Она молчала, напряженно дыша, пока Дик не договорил:
— И помимо всего, жизнь так устроена, что эти вещи не бывают по заказу.
Розмэри понурила голову и отошла, подавленная обидой и разочарованием.
Дик машинально начал было: «Лучше мы с вами просто…», но осекся, увидев, что она сидит на кровати и плачет, подошел и сел рядом. Ему вдруг стало не по себе; не то чтобы он усомнился в занятой нравственной позиции, — слишком уже явной была невозможность иного решения, с какой стороны ни взгляни, — нет, ему просто было не по себе, и обычная его внутренняя гибкость, упругая полнота его душевного равновесия на короткое время изменила ему.
— Я знала, что вы не захотите, — рыдала Розмэри. — Нечего было и надеяться.
Он встал.
— Спокойной ночи, детка. Ужасно глупо все получилось. Давайте считать, что этого не было. — Он отмерил ей дозу успокаивающей банальщины в качестве снотворного:
— Вас многие еще будут любить, а когда-нибудь вы и сами полюбите и наверно порадуетесь, что пришли к своей первой любви нетронутою и физически и душевно. Немножко старомодный взгляд, пожалуй?
Она подняла голову и увидела, как он сделал шаг к двери; она смотрела на него, даже отдаленно не догадываясь, что в нем происходит, она увидела, как он медленно сделал еще шаг, потом оглянулся — и на миг ей захотелось броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, его уши, ворот его пиджака, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя; но уже его рука легла на дверную ручку. Больше нечего было ждать. Когда дверь за ним затворилась, она встала, подошла к зеркалу и, тихонечко всхлипывая, стала расчесывать волосы щеткой. Сто пятьдесят взмахов, положенных ежевечерне, потом еще сто пятьдесят. Розмэри водила щеткой по волосам, пока у нее не заболела рука, тогда она переменила руку и продолжала водить…
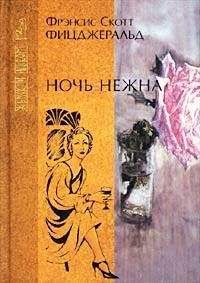

![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/137285/137285.jpg)