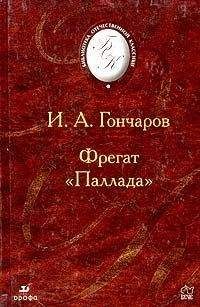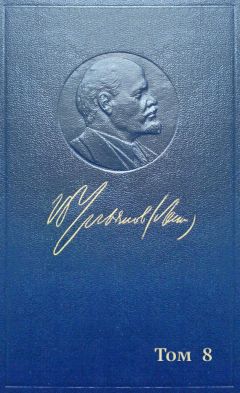"Там берегом дорога хорошая, ни грязи, ни ям нет, – сказал он, – славно пешком идти". – "Человек мой города не знает: он не найдет ни лошадей, ни гостиницы", – возразил я. "Однако гостиницы нет в Якутске", – перебил смотритель. "Как нет: где же я остановлюсь?" – спросил я, испуганный новым, неожиданным обстоятельством. "Извольте послать вашу подорожную в управу: сейчас квартиру отведут; обязаны". – "А tout malheur remede*", – заметил я почти про себя. "Чего изволите?" – "Нет, это я так, по-якутски обмолвился. Вот что, господин смотритель: я рассудил, что если я теперь поеду на ту сторону, мне все-таки раньше полночи в город не попасть. Надо будить всех. Не лучше ли мне ночевать здесь, в юрте?.." – "Оно, конечно, лучше, – отвечал он, – юрта хорошая, теплая; тут ничего не воруют; только блох дивно". * "Лекарство от всех бед" – фр.
Мне наскучил якутский язык, я обрадовался русскому, даже и этому, хотя не всё и по-русски понимал. Решено: я остался. Мы вошли в юрту, или, правильнее, урасу. Это просто большой шалаш, конической формы, из березовой коры, сшитый довольно плотно, так что ветер мало проходил насквозь. Кругом лавки, покрытые сеном, так же как и пол. Посредине открытый очаг, вверху отверстие для дыма. Кроме того, там были два столика, крытые красным сукном; на одном лежала таблица, с показанием станций и числа верст, и стояла чернильница с пером. Юрта походила на военную ставку, особенно когда смотритель повесил свою шпагу на гвоздь.
Я пригласил его пить чай. "У нас чаю и сахару нет, – вполголоса сказал мне мой человек, – всё вышло". – "Как, совсем нет?" – "Всего раза на два". – "Так и довольно, – сказал я, – нас двое". – "А завтра утром что станете кушать?" Но я знал, что он любил всюду находить препятствия. "Давно ли я видел у тебя много сахару и чаю?" – заметил я. "Кабы вы одни кушали, а то по станциям и якуты, и якутки, чтоб им…" – "Без комплиментов! давай что есть!"
"Скажите, пожалуйста, каков город Якутск?" – стал я спрашивать смотрителя.
О Якутске собственно я знал только, да и вы, вероятно, не больше знаете, что он главный город области этого имени, лежит под 62№ с‹еверной› широты, производит торг пушными товарами и что, как я узнал теперь, в нем нет… гостиницы. Я даже забыл, а может быть и не знал никогда, что в нем всего две тысячи семьсот жителей.
Я узнал от смотрителя, однако ж, немного: он добавил, что там есть один каменный дом, а прочие деревянные; что есть продажа вина; что господа всё хорошие и купечество знатное; что зимой живут в городе, а летом на заимках (дачах), под камнем, "то есть камня никакого нет, – сказал он, – это только так называется"; что проезжих бывает мало-мало; что если мне надо ехать дальше, то чтоб я спешил, а то по Лене осенью ехать нельзя, а берегом худо и т. п.
Потом он поверил мне, что он, по распоряжению начальства, переведен на дальнюю станцию вместо другого смотрителя, Татаринова, который поступил на его место; что это не согласно с его семейными обстоятельствами, и потому он просил убедительно Татаринова выйти в отставку, чтоб перепроситься на прежнюю станцию, но тот не согласился, и что, наконец, вот он просит меня ходатайствовать по этому делу у начальства.
Я всё обещал ему. "Плотников – моя фамилия", – добавил он. "Очень хорошо – Плотников", – записал я в книжечку, и мне живо представилась подобная же сцена из "Ревизора".
Потом смотритель рассказывал, что по дороге нигде нет ни волков, ни медведей, а есть только якуты; "еще ушканов (зайцев) дивно", да по Охотскому тракту у него живут, в своей собственной юрте, две больные, пожилые дочери, обе девушки, что, "однако, – прибавил он, – на Крестовскую станцию заходят и медведи – и такое чудо, – говорил смотритель, – ходят вместе со скотом и не давят его, а едят рыбу, которую достают из морды…" – "Из морды?" – спросил я. "Да, что ставят на рыбу, по-вашему мережи".
Смотритель говорил, не подозревая, что я предательски, тут же, при нем, записал его разговор.
Подали чай. Человек мой хитро сложил в пирамиду десятка полтора кусков сахару, чтоб не обнаружить нашей дорожной нищеты. Я придвинул сахар к смотрителю. Он взял самый маленький кусочек и на мое приглашение положить сахару в стакан отвечал, что никогда этого не делает, – сюрприз для моего человека, и для меня также: у меня наутро оставался в запасе стакан чаю. Смотритель выпил три стакана и крошечный оставшийся у него кусочек сахару положил опять на блюдечко, что человеком моим было принято как тонкий знак уменья жить.
Между тем наступила ночь. Я велел подать что-нибудь к ужину, к которому пригласил и смотрителя. "Всего один рябчик остался", – сердито шепнул мне человек. "Где же прочие? – сказал я, – ведь у якута куплено их несколько пар". – "Вчера с проезжим скушали", – еще сердитее отвечал он. "Ну разогревай английский презервный суп", – сказал я. "Вчера последний вышел", – заметил он и поставил на очаг разогревать единственного рябчика.
Смотритель вынул из несессера и положил на стол прибор: тарелку, ножик, вилку и ложку. "Еще и ложку вынул!" – ворчал шепотом мой человек, поворачивая рябчика на сковородке с одной стороны на другую и следя с беспокойством за движениями смотрителя. Смотритель неподвижно сидел перед прибором, наблюдая за человеком и ожидая, конечно, обещанного ужина.
Я с удовольствием наблюдал за ними обоими, прячась в тени своего угла. Вдруг отворилась дверь и вошел якут с дымящеюся кастрюлей, которую поставил перед стариком. Оказалось, что смотритель ждал не нашего ужина. В то же мгновение Тимофей с торжественной радостью поставил передо мной рябчика. Об угощении и помину не было.
Как бы, кажется, около половины сентября лечь раздетому спать на дворе, без опасности простудиться насмерть? Ведь березовая кора не бог знает какие стены. В Петербурге сделаешь это и непременно простудишься, в Москве реже, а еще далее, и особенно в поле, в хижине, кажется, никогда. Мы легли. Человек сделал мне постель, буквально "сделал", потому что у меня ее не было: он положил на лавку побольше сена, потом непромокаемую шинель, в виде матраца, на это простыню, а вместо одеяла шинель на вате. В головах черкесское седло, которое было дано мне напрокат с тем, чтоб я его доставил в Якутск. Я быстро разделся и еще быстрее спрятался в постель.
Не то было с смотрителем: он методически начал разоблачаться, медленно снимая одну вещь за другою, с очков до сапог включительно. Потом принялся с тою же медленностью надевать ночной костюм: сначала уши заткнул ватой и подвязал платком, а другим платком завязал всю голову, затем надел на шею шарф. И так, раздеваясь и одеваясь, нечувствительно из старика превратился в старуху. Пламя камина освещало его изломанные черты, клочки седых волос, выглядывавших из-под платка, тусклый, апатический, устремленный на очаг взгляд и тихо шевелившиеся губы.
Я смотрел на него и на огонь: с одной стороны мне было очень тепло – от очага; спина же, обращенная к стене юрты, напротив, зябла. Долго сидел смотритель неподвижно; мне стало дрематься.
"Осмелюсь доложить, – вдруг заговорил он, привстав с постели, что делал всякий раз, как начинал разговор, – я боюсь пожара: здесь сена много, а огня тушить на очаге нельзя, ночью студено будет, так не угодно ли, я велю двух якутов поставить у камина смотреть за огнем!.." – "Как хотите, – сказал я, – зачем же двух?" – "Будут и друг за другом смотреть".
Пришли два якута и уселись у очага. Смотритель сидел еще минут пять, понюхал табаку, крякнул, потом стал молиться и наконец укладываться. Он со стонами, как на болезненный одр, ложился на постель. "Господи, прости мне грешному! – со вздохом возопил он, протягиваясь. – Ох, Боже правый! ой-о-ох! ай!" – прибавил потом, перевертываясь на другой бок и покрываясь одеялом. Долго еще слышались постепенно ослабевавшие вздохи и восклицания. Я поглядывал на него и наконец сам заснул.
Проснувшись ночью, я почувствовал, что у меня зябнет не одна спина, а весь я озяб, и было отчего: огонь на очаге погасал, изредка стреляя искрами то на лавку, то на тулуп смотрителя или на пол, в сено. Сверху свободно струился в юрту ночной воздух, да такой, Бог с ним, свежий… Оба якута, положив головы на мой sac de voyage, носом к носу, спали мертвым сном. Смотритель спал болезненно: видно, что, по летам его, ему и спать уж было трудновато. Он храпел, издавая изредка легкое стенанье, потом почавкает губами, перестанет храпеть и начнет посвистывать носом.
Тут же я удостоверился, что в юрте в самом деле блох дивно.
На другой день, при ясной и теплой погоде, я с пятью якутами переправился через Лену, то есть через узенькие протоки, разделявшие бесчисленные острова. Когда якуты зашевелили веслами – точно обоз тронулся с места: раздался скрип, стук. После гребли наших матросов куда неискусны показались мне ленские гребцы! Один какой-то якут сидел тут праздно, между тем мальчишка лет пятнадцати работал изо всех сил; мне показалось это не совсем удобно для мальчишки, и я пригласил заняться греблей праздного якута. Он с величайшею готовностью спрятал трубку в сары и принялся за весло. "Кто это такой?" – спросил я. "Староста, – сказали мне, – с наслега едет в город". Я раскаялся, что заставил работать такого сановника, но уж было поздно: он так и выходил из лопаток, работая веслом. Мальчишка достал между тем из сапога грубый кусок дерева с отверстием (это трубка), положил туда щепоть зеленоватого листового табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и подкрошил туда же; из кремня добыл огня, зажег клочок моха вместо трута и закурил всё это вместе. "Зачем дерево кладешь в табак?" – спросил я. "Крепше!" – отвечал он.