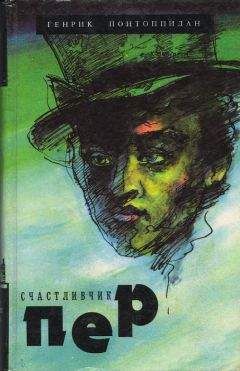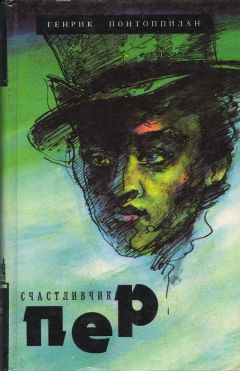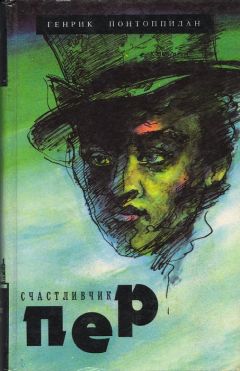Пер задумался.
Ему пришло в голову, что для Ингер будет лучше всего, если он подтвердит ее подозрения и признает себя виновным. Без такой серьезной причины она не согласится на официальный развод. А ему выгодно, чтобы она его возненавидела: тем скорей она его забудет. Он уже слишком от многого отказался, так стоит ли теперь жалеть о чести?
— Да, ты права, — ответил он и покорно склонил голову.
Ингер застыла на месте. Лицо ее как-то сразу осунулось, и на нем остались только огромные черные зрачки. Руки она скрестила на груди.
— И ты мог подло скрывать это от меня целых три недели! Значит, отец был прав! А я-то, дура, всегда тебя защищала… Так вот откуда твоя бессонница! И вечные головные боли!.. Смешно подумать, что я только о том и заботилась, как бы тебя порадовать, как бы развеселить! А ты тем временем тосковал по другой и прикидывал, как бы тебе получше отделаться от нас! Какая гнусная комедия! Какая низость! И трусость!
Сквозь открытые двери детской доносилось хныканье малышки. Ингер его не слышала. Она снова принялась расхаживать взад-вперед и что-то говорила, но уже скорее сама с собой. Лишь когда девочка разоралась вовсю, она пошла к ней.
Пер выпрямился, зажал голову между ладонями и застонал. И так, дело сделано! Жертва принесена на алтарь! И он дал себе слово держаться до последнего.
Ингер вернулась и снова начала мерить комнату торопливыми шагами. Потом подошла к нему вплотную.
— Неужели тебе больше нечего сказать? Ну скажи, что это неправда!
Он покачал головой.
— Нет, Ингер, к чему слова?
Она постояла еще немного, потом расплакалась и ушла в спальню.
До него еще донеслось: «Какая трусость! Как низко!» — потом дверь захлопнулась. Через некоторое время в доме поднялась суматоха. Хлопали двери, Ингер громким голосом отдавала распоряжения служанкам. Во дворе загрохотали деревянные башмаки работников. Раскрыли двери каретника и выкатили оттуда экипаж.
«Она хочет уехать еще сегодня», — в ужасе подумал Пер.
Подняли с постели детей. Ингеборг плакала. Хагбарт спросил, не горел ли их дом. По всем комнатам разносился повелительный голос Ингер. В гостиную влетела, сняв туфли, одна из служанок, но при виде Пера испуганно метнулась обратно. Заглянула туда и сама Ингер — уже совсем одетая для дороги, в пальто и шляпке.
— Слушай, Ингер, если уж без этого никак нельзя лучше уехать мне. Или хоть подожди до утра.
Ингер не ответила. Она подошла к секретеру и, открыв его, достала оттуда деньги и кое-какие вещички.
— Ты мне позволишь встречаться с детьми?
— Только не сегодня. Ты сможешь увидеть их в доме моих родителей.
Не прошло и получаса, как коляска выехала из ворот. Пер не шелохнулся. Когда замер вдали стук колес, он отвел руки от лица и невольно взглянул на небо.
— Ну, теперь ты доволен?
Если по дороге от Оддесуна в Тистед, возле поселка Идбю с его мрачными болотами и трясинами, свернуть на запад к чистенькому и живописному городку Вестервиг, где покоится прах Лидена Кирстена, а за Вестервигом взять севернее, то перед вами откроется необозримая, бесплодная равнина, по которой круглый год гуляют буйные ветры, а овцы даже среди лета гибнут порой от бескормицы. Кругом, куда ни глянь, валуны и болота, и никогда — ни зимой, ни летом — равнина не меняется; она сизо-зеленая там, где растет песчанка, и бурая там, где — вереск. Песчанка да вереск — вот и вся защита от соленых, разъедающих почву волн. Дорога все время петляет: когда на пути встает непроезжая трясина, она идет в обход, и в редкие минуты затишья ее, словно пожарище, заволакивает густой мглой.
Кое-где попадается небольшой хуторок или просто крытая вереском хижина, но иногда их разделяет несколько километров, а настоящих городов здесь нет и в помине. Только в одном месте, где прорыт сток из болота, есть какое-то подобие зарождающегося поселка. По обоим берегам стока приютились четыре дома, из которых один занимает школа. В другом живет смотритель общественных лугов. В третьем — сапожник. В четвертом сейчас никто не живет.
Всего несколько дней назад из последнего дома вынесли гроб с телом немолодого человека. Покойный прожил здесь много лет и все эти годы возбуждал любопытство окрестных жителей. Откуда он взялся, никто не знал, потому что он никогда и ничего не рассказывал о своем прошлом. Не сказать, чтобы он был несловоохотлив, разве что слегка резковат, и друзей у него здесь было хоть отбавляй, а враг — только один: здешний пастор. Он не имел семьи и жил одиноко в своем большом доме вместе со старой домоправительницей, старой конягой и десятком кур. Человек он был из простых, незнатный, но книг у него было очень много. Правда, большую часть дня он проводил не за книгами, а за работой — разъезжал по делам службы на мохнатой лошаденке, уже ничего почти не видевшей от старости, и думал свою думу. Он исправлял обязанности дорожного смотрителя, и никогда еще дороги здесь не были в таком прекрасном состоянии, как при нем.
Несмотря на полное одиночество и на слабое здоровье, вынуждавшее его вести очень размеренный образ жизни и отказываться от всех тех удовольствий, с помощью которых местные жители пытаются как-то скрасить свое невеселое житье-бытье среди неласковой природы, он всегда производил впечатление человека спокойного и всем довольного. Это удивляло людей и даже, по правде говоря, беспокоило, тем более что пришелец вовсе не искал утешения в религии: он не только не ходил к причастию, но и вообще в церковь не заглядывал, а посему местный священник причислил его к сонму нечестивых, коих удел есть вечное проклятие.
Особенно пришелся он по душе своему соседу, учителю, молодому и мыслящему. Последний любил вечерком, хоть и не без угрызений совести, заглянуть к нему на огонек и потолковать о всяких серьезных материях. Учитель был еще очень юн и до сих пор сохранил детскую веру в конечное торжество добра, а поскольку он к тому же был человеком порядочным и честным, ему казалось, что уж что-что, а царствие небесное ему обеспечено. Но хотя у него была очень хорошая семья и превосходные виды на будущее, выдавались порой — и даже довольно часто — минуты мрачные и недобрые, и тогда он не мог скрыть от себя, что его сосед безбожник, да еще одинокий как перст — много счастливее, чем он сам. Когда он однажды, набравшись храбрости, поделился своими наблюдениями со смотрителем, тот спокойно и кратко объяснил, что, следовательно, он, учитель, не нашел еще места, отведенного ему в жизни, а изведать высшее человеческое счастье «быть самим собой и познать самого себя» можно, только отыскав это место. Но когда учитель затем спросил, где и как следует его искать, смотритель ответил, что тут никакие советы не помогут и надо просто без остатка отдаться на волю инстинкта самосовершенствования, который заложен от природы во всяком живом существе.
В другой раз учитель попытался выведать, по какому признаку человек может узнать, что он достиг «высшего счастья», но и об этом смотритель не захотел разговаривать. «Спросите лучше вашего пастора!» — насмешливо отрезал он. Потом, однако, добавил, что каждый отдельный человек со своей стороны должен попытаться установить непосредственную и как можно более тесную связь с предметами и явлениями, вместо того чтобы воспринимать их через чужие органы чувств (так, кстати, поступают все, кто живет заимствованными представлениями и не имеет собственных). Такое подлинно живое отношение к жизни необходимо для человека, желающего наслаждаться чистой радостью познания, которую дарует нам любое событие — великое и малое, счастливое и горестное. И тот, кто не изведал, какое это счастье, когда перед тобой открывается еще один — пусть крохотный, пусть ничтожный — уголок в заповедном царстве мысли или в действительной жизни, тот вообще не знает, что значит жить.
Эти слова учитель Миккельсен много раз вспоминал в последний год жизни смотрителя, ибо тот, несмотря на ужасные физические страдания — он умирал от рака, — никогда не падал духом и не искал поддержки у окружающих. Он с живым интересом изучал свой недуг и отыскивал его разрушительные следы в своем организме. Правда, во время мучительных приступов боли он не мог удержаться от стонов, так что соседям приходилось закладывать ватой уши; но потом, бывало, когда они заглядывали к нему, они видели перед собой человека, который, казалось, испытал глубокое наслаждение. И никогда, ни на одну минуту жизнь не казалась ему совсем уж невыносимой: люди убедились в этом после его смерти, когда нашли у него в тумбочке заряженный револьвер.
Последние дни он лежал совсем тихо и никого не хотел видеть. Но процесс разрушения человеческого организма до последней минуты занимал его мысли. Когда он почувствовал, что ноги у него уже начали холодеть, он попросил принести зеркало, чтобы посмотреть на выражение своего лица.