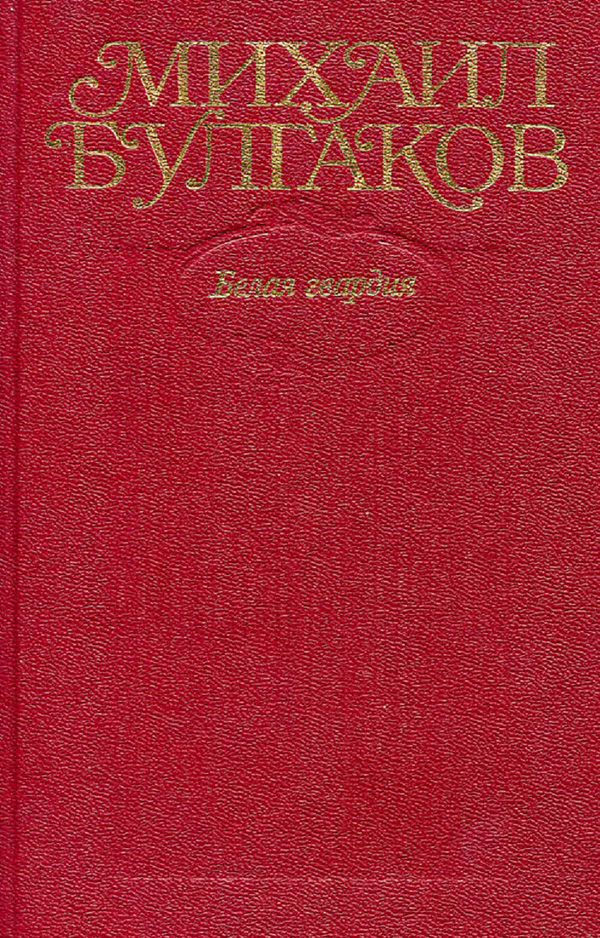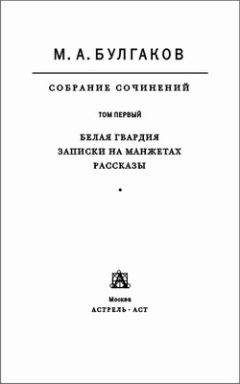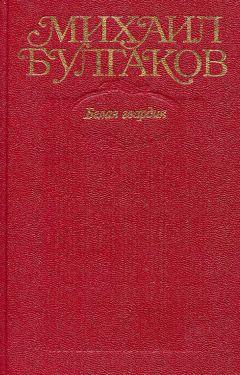войны на Украине эпохи гетманщины и петлюровщины... — писал критик М. Загорский. — В этом воздухе эпохи пропадали или делались не особенно заметными некоторые затаенные тенденции автора и почти пропадали поступки и разговорчики маленькой группы глупых людей, отдававших свою жизнь за победу «белой идеи»...» [180]
Буря против «булгаковщины» отодвинула «Белую гвардию» на задний план и сделала почти невозможным серьезный разбор романа в те годы. А между тем такой разбор был бы очень важен при рассмотрении основных путей развития русской прозы в 20-х годах.
Уже А. Лежнев обратил внимание на связь «Белой гвардии» с толстовской традицией, отметив сходство Николки Турбина с Петей Ростовым из «Войны и мира». Связь с традицией «Войны и мира» отмечал, как мы знаем, и сам Булгаков.
Событийность «Белой гвардии», тема столкновения личного существования с «исторической судьбой», столь важная для «Войны и мира», отличала это и последующие сочинения Булгакова от большинства произведений литературы того времени.
Утрата сюжетности была довольно характерна для русской литературы начала XX века. Своеобразной читательской реакцией на такую утрату был отмечаемый многими критиками 20-х годов усиленный читательский спрос на переводную литературу — часто не очень высокого уровня [181]. Ответом на этот спрос были романы в переводном стиле о «разлагающейся» Европе. Один из таких романов — «Кто смеется последним» — написал в 1925 году Ю. Слезкин, избравший иностранный псевдоним «Жорж Деларм» (перевод собственного имени и фамилии на французский язык); в этом же стиле писали И. Эренбург, М. Шагинян («Месс-Менд») и другие.
И. Лежнева, издавшего «Белую гвардию», не привлекала ни эта псевдопереводная сюжетика, ни еще более характерный для прозы того времени «художественный беспорядок», смещение масштаба событий в сюжетном повествовании, «мастерство, в одно и то же время растрепанное и вычурное», идущие в значительной степени от Андрея Белого [182]. Ориентируясь на русскую классику XIX века, и в первую очередь — на Л. Н. Толстого, Булгаков возвращался к реальным масштабам событий. Восстанавливалось значение истории как грандиозного процесса, решающего судьбы огромного числа людей и требующего от рядового человека каких-то действий.
В своих представлениях об этих действиях Булгаков отнюдь не был последователем Толстого. Не разделял он, в частности, толстовской идеализации крестьянина — Платона Каратаева. Не принимал он и толстовскую идею «непротивления злу насилием». Напротив, реакция его героев в какой-то степени противостояла толстовскому непротивлению. Видя зверства петлюровцев, доктор Турбин (в первоначальном финале романа) сладострастно мечтает о том, чтобы в руках у него оказался «матросский револьвер»: «Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому...», а потом, вернувшись домой, рыдает и укоряет себя именно за неспособность к такому действию: «Но я-то... Интеллигентская мразь...» [183]
Однако возможности отдельной личности, попавшей в водоворот исторических событий, Булгаков отнюдь не переоценивал: Най-Турс или Малышев могут отправить юнкеров по домам; демонический Шполянский может на несколько часов ускорить гибель гетманского режима, но основной ход событий зависит не от них, а от «мужичонкова» гнева.
Традиции «Войны и мира» проявлялись в «Белой гвардии» не в подражании стилистике Толстого, а в восприятии его отношения к истории. Это обстоятельство было почти не замечено современниками, обратившими мало внимания на «Белую гвардию». Шумная кампания против «булгаковщины», начавшаяся после «Дней Турбиных», мешала серьезному осмыслению его первого романа.
В какой-то степени молчание критики о «Белой гвардии» и скандал вокруг «Дней Турбиных» дезориентировали и самого писателя, затрудняли для него неизбежно трудный процесс оценки собственного первого крупного произведения. В автобиографии 1926 года он написал, что любит «Белую гвардию» «больше всех своих вещей», но в беседе с П. С. Поповым, его первым (и тогда — единственным) биографом, сказал, что считает «свои роман неудавшимся», хотя выделяет «его из всех своих вещей, т. к. к замыслу относился очень серьезно» [184].
Однако среди современников Булгакова нашлись и такие, которые сумели оценить факт появления в русской литературе «Белой гвардии». «Как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого», — писал Максимилиан Волошин в марте 1925 года [185]. Время доказало прозорливость поэта.
Статья-послесловие к роману «Белая гвардия» написана Я. С. Лурье, комментарии — Я. С. Лурье и А. Б. Рогинским.
«Необыкновенные приключения доктора». — Впервые — журн. «Рупор». 1922. № 2. Рукопись не сохранилась.
«Красная корона (Historia morbi)». — Впервые — «Литературное приложение» к газете «Накануне». 22 октября 1922 г. Рукопись не сохранилась.
«Китайская история». — Впервые — журн. «Иллюстрации Петроградской правды». 1923. № 7 (6 мая); затем — сб. «Дьяволиада». М., 1925.
В архиве сотрудника издательства «Недра» М. И. Чуванова сохранилась наборная рукопись с авторской правкой. Печатается по тексту сб. «Дьяволиада».
«Налет (В волшебном фонаре)». — Впервые — газ. «Гудок». 1923. 25 декабря, под инициалами «М. Б.». Рукопись не сохранилась. Атрибутируется по постоянно используемой автором подписи инициалами, по содержанию и сюжетно-повествовательным особенностям.
«Богема». — Впервые — журн. «Красная нива». 1925. № 1. Рукопись не сохранилась.
Все рассказы (кроме рассказа «Китайская история») печатаются по тексту первой публикации.
Начало своей литературной деятельности Булгаков датировал ноябрем 1919 года. «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью <...> написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов» (автобиография, октябрь 1924 г. — Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. С. 55). Этим городом мог бы стать и Ростов (там выходило в ту осень множество газет и журналов), где Булгаков побывал, следуя военврачом на Северный Кавказ, и Грозный, где 13 (26) ноября в газете «Грозный» была опубликована недавно разысканная статья «Грядущие перспективы» с резкими характеристиками Февральской и Октябрьской революций.
П. С. Попов написал в 1940 году, следуя за словами самого Булгакова: «Его литературный дебют относится к 19 ноября 1919 года». Т. Н. Кисельгоф, приехавшая к мужу, по-видимому, поздней осенью 1919 года, вспоминала: «Когда я приехала во Владикавказ, он мне сказал: “Я печатаюсь”». В письме двоюродному брату К. П. Булгакову от 2 февраля 1921 года Булгаков напоминает: «Около года назад я писал тебе, что я начал печататься. Фельетоны мои шли во многих кавказских газетах». Речь идет, таким образом, о печатании зимой 1919/20 годов на территории, контролируемой Добровольческой армией. Об этом же — запись в дневнике Ю. Слезкина (от 21 февраля 1932 г.), так вспоминающего о знакомстве с Булгаковым: «Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал