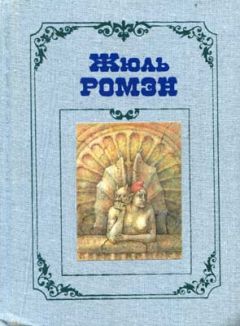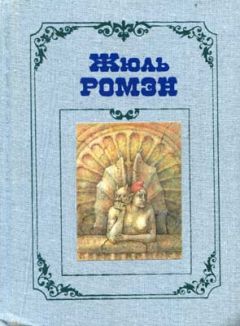— Почему это?
— Говорю тебе, не стоит.
— Хочешь чего-нибудь другого?
— Ни того, ни другого.
— Припарку?
— Мне больше ничего не надо.
— Да нет же! Вот увидишь.
— Теперь уже нечего готовить отвар для старухи.
Он чувствовал великое горе. Но он знал, что это горе ненадолго. Раз старуха умирает, он тоже умрет, немного раньше, немного позже; он умрет не от избытка боли, как молодые люди, у которых вдруг разрывается душа. Он кончится естественно, в силу неизбежности; так части трупа гниют одна за другой, и для них не требуется каждый раз нового насилия.
Но вот капля воды упала на пол и издала легкий звук; упала другая капля; потом другие, через ровные промежутки. Старик не стал доискиваться, откуда они падают. Но благодаря этому новому звуку капель он расслышал тикание часов, которого до того не замечал. Капли и секунды стали падать попеременно.
Старуха тоже услышала; и она только яснее почувствовала, что умирает. Этот размеренный звук, казалось, разнимает ее легкими уларами. Это был ее способ умирать, ухватка ее последнего часа.
— Мне кажется, теперь я увижу нашего Жака, — сказала она.
Он не возражал.
— И даже, что это будет скоро.
Оба поняли, что было бы бессмысленно еще верить; им казалось, что они зажились и что их ждут.
Старику, право, хотелось, чтобы этот вечер был последним; он нашел, что старуху нечего жалеть, раз она уверена, что уйдет первой.
«Если она умрет сегодня ночью, — подумал он, — что я буду делать завтра?»
Завтра показалось ему чем-то ужасным, что он не в силах будет вынести и все-таки вынесет.
Старуха заговорила с трудом:
— Скажи Мели, чтобы она сбегала за священником.
Старик Годар вышел, не возражая.
Она осталась лежать одна, вытянувшись посреди кровати, плоско положив затылок на подушку: ее душа стала совсем маленькой; она словно забилась в уголок; но была ясной и мучилась скорее беспокойством, чем страхом.
Звук капель умолк. Секунды стали казаться шире; каждая проходила торжественно. Старуха почувствовала что-то вроде воодушевления. Былые скорби и печали рассеивались, словно улетучиваясь на огне.
«Мой Жак умер нынче весной».
Она твердила это; она была полна этим воспоминанием; но оно ее совсем не печалило. Смерть ее сына и ее собственная смерть не были уже бедствиями. Даже несчастия ли это? Не то, чтобы она надеялась на встречу матери с сыном в господнем раю. Она верила в другую жизнь; и если бы ее спросили, она ответила бы: «Да, я увижусь с Жаком на небе». Но в этой мысли для нее не было ничего отчетливого, даже ничего такого, что должно случиться скоро. Старуха почерпала в чем-то другом свою необычайную просветленность и ту как бы радость, которая заставляла ее спешить к смерти, как на семейный обед.
«Нечего было, — смутно думала она, — так жалеть Жака. Люди плохо понимают. Напрасно мучатся». По мере того, как она приближалась к смерти, ей становилось попятно, что это не страшная страна. Умерших жалеют; но их нечего жалеть. Комната была освещена только углями очага; не было больше ни волнуемого пламени, ни порхающих теней; старуха ничего уже не видела; и однако, она не ощущала гнета темноты. Ей показалось, что ее приподымают. С каждым биением часов она восходила на одну ступень. Этот размеренный звук был звуком таинственной и в то же время простой машины, которая легкими толчками, как лебедка, подымала вас все выше и выше, все выше и выше.
Едва ее похоронили, как старик Годар начал умирать. Он чувствовал, что сходит в небытие с силой и тяжелее других. Потому что он умирал не только за себя. Мать и сын ушли, не издав последнего вздоха. Он был тут, в груди у старика; он вздувал ее, ожидая своего часа, готовый вырваться и досадуя на задержку.
Эта агония, от которой тело не страдало, длилась четыре или пять недель. Она кончилась как-то утром, когда день вставал над снегом и куры кудахтали в хлеву, не решаясь выйти. В стенах дома были только старик да соседка, ухаживавшая за ним в свободные минуты. Он произнес несколько слов, смысл которых понимал только он один, потому что он хотел заставить слова выразить непривычные вещи. «Он слегка бредит, — думала женщина, — это дурной знак!»
Она продолжала ходить по комнате, прошла от кровати к окну, от буфета к печи. Старик ничего больше не сказал. Она не заметила, когда именно он умер.
Однажды скорый поезд в составе десяти вагонов пересекал равнину Сен-Дени, полный радости пассажиров, опьяненных первым порывом на волю. Машинист чувствовал себя счастливым и почти веселым; но без легкомыслия и без эгоизма. Он вспоминал свои школьнические и юношеские излишества. На расстоянии они казались ему грубыми и почти все жестокими. Потом, вдруг, ему вспомнилось лицо, которое он знавал, и послышался голос, отчетливее, чем обычно бывают приходящие на память голоса. Это его взволновало и словно смягчило.
— Кто бы это мог быть?
Он долго доискивался, не переставая следить за сигналами и наблюдать за манометрами.
— Кто это?
Лицо появлялось и затем исчезало, словно перед ним стлался паровозный дым и то скрывал его, то открывал. Голос доносился порывами; он произносил только обрывки фраз; но казалось, что слышишь кого-то въявь.
Поезд шел очень быстро. На этом месте путь как раз немного загибал. Машинист должен был бы убавить ход. Но это воспоминание придало ему какое-то воодушевление и отвагу. Он не прикоснулся ни к одному рычагу, ни к одной рукоятке. Слышно было, как правые колеса упираются в рельс, хотят в него врезаться, скрипят об него. Весь поезд сопротивлялся изгибу. Он был подобен шпаге, которую насильно вкладывают в кривые ножны. И лицо, в былом, как будто радовалось.
Мир пребывал, и никто больше не думал о Жаке Годаре. Он не являлся в сновидениях; он не мелькал в конце вереницы воспоминаний; не возникало его лицо, когда трогали знакомую вещь, и никому, кто грелся у огня или шагал пустынным перекрестком, не чудился его голос.
Он исчез, как запах. И вот что с ним случилось в тот миг, когда он уже было достиг глубины небытия.
Это было в начале марта.
Все утро и за полдень шел дождь. Туча, печальным грузом нависавшая над городом, была охвачена как бы героическим возбуждением. Между совсем серыми облаками появились бесконечно чистые и бесцветные куски неба. Всякий, кто поднимал голову и глядел на них, мог верить какой угодно мечте.
Небесная синева была во много раз светлее, чем глаза самых химерических детей.
Лучшие надежды, вера души в свое царство; мысль о том, что в мире есть место для святости; уверенность, что вселенная — не грубый случай; все нежные думы, вспугнутые множеством событий и прячущиеся за других, чтобы не стали смеяться над их наивностью, — посмели показаться, посмели двигаться перед лицом неба, похожего на них. Казалось, в мире есть идеал и мир, наконец, признал это.
По одному из бульваров, тянущихся вдоль стен Парижа, прогуливался молодой человек. Он был в том возрасте, когда становятся реже припадки восторженной доверчивости и отчаяния, потрясающие юность; но когда душа охвачена страхом, что ничего уже не полюбит. Этот предвечерний час наполнял ее мужеством и неутоленностью.
Он ровными шагами попирал грунт, размытый дождем. Голые ветви, шевелясь, казалось, еще подгоняли бег облаков. Свет отделялся от земли и поднимался к зениту, как бы в молитвенном восхождении.
Коже лица было немного холодно, настолько, что все тело пробуждалось и подтягивалось в живом ощущении; не настолько, чтобы ей самой было неприятно.
Но наибольший трепет пробегал по городу, благодаря часу и небу. И нигде его не постигали торжественнее, чем на пустынном бульваре.
Он приближался, широкий и медленный; его волны избегали одна за другой; порывы и схватки успели в них растаять и утихнуть; узловатые движения растворились в пути.
Молодой человек всем сердцем участвовал в этом волнении. Из невидимого центра к нему ширились благотворные круги: он встречал их без удивления; но понемногу они стали нарушать его шаг.
Прохожий, идущий по внешним бульварам, на склоне дня и у которого есть цель, должен делать усилие, чтобы не забыть о ней и продолжать свой путь.
Потому что у него является странное желание уехать, словно тоска по изгнанию. Знакомые места, куда он идет, уже не привлекают его; его занятия кажутся ему мелочными; и он зевает при мысли, что ему надо исполнить свое намерение, хотя бы самое неотложное.
Молодой человек прогуливался без цели, у него не было маршрута, который ему приходилось бы ограждать от своих желаний. Ничто не мешало ему выйти за стены, как то ему подсказывало глухое побуждение, вскочить в трамвай и ехать часами. Потребности бежать он противился в силу чувства, а не в силу воли. Ему хотелось быть не здесь; по он был глубоко убежден, что нигде ему не будет так хорошо, как на голом бульваре. Лучше всякого другого он испытывал этот идущий от города напор; он встречал его правым боком; напор казался напряженным и повторным; это было вроде пульсации; душа впускала его и превращала в смутные слова, требующие новой судьбы.