— Сходи-ка, прогуляйся, да скоро не возвращайся, — улыбнулся отец. — Обдумай все как следует.
— Если же у тебя вдруг появятся какие-нибудь сомнения, ты ведь знаешь, у кого спросить совета, — скорбно прошептала матушка.
И все же ночью мне снилась не школа, а нечто совсем другое: прекрасные королевы склонялись надо мной и венчали чело лаврами; где-то томились похищенные принцессы, и я мчался во весь опор, чтобы победить или умереть. А дело было в том, что, когда я, нагулявшись, вернулся домой, отец позвал меня в гостиную; я вошел и обомлел, ошеломленный прекрасным видением, открывшимся мне. Я стоял как вкопанный, сжимая в руке шапку.
Подобного чуда мне видеть не доводилось. Девушки, которых встречаешь на улицах Поплара, по-своему красивы, но шляпки их ужасно портят. Дамы, изредка навещавшие нас, имели вид почтенных матрон. Лишь на картинках попадались мне столь очаровательные лица, да и то такими они казались лишь на первый взгляд; присмотревшись, замечаешь типографский брак.
Я слышал, как старый Хэзлак прохрипел прокуренным голосом: „А это моя девчушка, Барбара“, и я, ничего не соображая, подошел к ней поближе.
— Можешь ее чмокнуть, — опять дошел до меня прокуренный голос. — Да не дрейфь, она не кусается!
Но я не стал ее целовать. У меня даже желания такого не появилось.
На вид ей было лет четырнадцать, мне же чуть больше десяти, хотя и был я рослым не по годам. Позже я узнал, что крайне редко встречаются такие удивительные золотистые волосы, которые светятся сами по себе, поэтому и казалось, что ее лицо, будто бы сделанное из тонкого фарфора, окружено сияющим ореолом, а голубые глаза, завешенные густыми ресницами, таинственно блестели. Но тогда я этого не знал, и мне казалось, что она явилась прямо из сказки.
Она улыбнулась, великолепно понимая мое состояние. Было видно, что она радуется моему смущению. Хотя и был я всего лишь маленький мальчик, да и ее претензии на звание барышни были мало обоснованны, она со мной явно кокетничала.
Прекрасная и нежная, ничего дурного в тебе, кроме этого кокетства, не было. Да и в кокетстве ничего плохого нет, когда кокетничают не с тобой.
В которой дорога, которую выбрал Пол, начинает петлять.У доктора Флорета все было нормально — этот эпитет в равной степени применим как к его внешним данным, так и к душевным качествам. Он был высоким — но не слишком, именно такого роста и должен быть директор солидной школы для детей родителей среднего достатка; он был полным — но толстым назвать его было нельзя; в общем, комплекция его внушала почтение, но не поражала. На левой руке он носил перстень с бриллиантом, но колечко было тоненьким, а камушек скорее сиял, чем сверкал. Чисто выбритое лицо излучало доброту — но доброту до разумных пределов.
И все, что его окружало, было таким же. Свою жену он мог с большим основанием, чем кто-либо другой, называть „моя половина“. Сходство было столь разительным, что, глядя на них, казалось, будто она произошла на свет не как все обычные люди, а была, по старинке, сделана из его ребра и изначально предназначалась ему в жены. Мебель у него была прочной, основательной и служила не для украшения интерьера, а для пользования по прямому назначению. На стенах висели картины, но они, дабы не раздражать глаза, подбирались в тон к обоям, как это принято делать в случае подборки гардероба. Он всегда говорил только то, что надо, всегда в должное время и выбирая нужные слова. Если вы не знали, как поступить, то следовало немного подождать и посмотреть, как он будет действовать в подобных обстоятельствах и смело следовать его примеру: он всегда делал так, как положено. Взгляды его поражали своей исключительной ортодоксальностью. Если вы в чем-то отличались от него, то рисковали прослыть опасным смутьяном.
Я проучился четыре года, и толку от такой учебы было мало. Теперь-то я знаю, что он придерживался методов обучения, которые английские педагоги, начиная со времен Эдуарда IV[22], считают единственно приемлемыми.
Бог свидетель, я старался вовсю. Я хотел учиться. Но я, что называется, разбрасывался. Я сгорал от честолюбия и во всем хотел быть первым. Стоило мне пройти мимо какого-нибудь уличного оратора, размахивающего шляпой и сулящего голодной, возбужденной толпе земной рай, как я тут же воображал себя этаким Демосфеном, ведущим за собой народ, государственным деятелем, которому, затаив дыхание, внимает Палата общин, премьер-министром кабинета Ее Величества, которого боготворит вся нация. И даже злобствующая оппозиционная пресса (впрочем, о существовании оппозиции я тогда и не подозревал) вынуждена признать мои неоспоримые достоинства. Стоило мне заслышать отдаленную дробь барабана, как тут же перед моими глазами открывалось живописное поле брани; на общем фоне выделялась одна колоритная фигура — это я, впереди всех, веду солдат в атаку. В той Британской армии, которой я грезил, единственным критерием производства в следующий чин была личная храбрость, и я быстро дослуживаюсь до главнокомандующего. Меня встречают восторженные толпы, на улицах вывешены флаги. Из окон женщины машут белыми платочками. Приветственные крики сливаются в сплошной рев. Я восседаю на белом коне. А может, коню положено быть вороным? Я не знал. Масть моего боевого товарища стоила мне многих терзаний — уж очень хотелось, чтобы все было как надо. Итак, я торжественно следую во главе победоносного войска, полиция с трудом сдерживает беснующуюся толпу — и я натыкаюсь на фонарь и наступаю на ногу какому-то сердитому джентльмену.
Я просыпаюсь. Из пивной вышибают пьяного матроса, и он, то и дело меняя галс, пускается в опасное плавание по шумной улице. И тут же дымящая фабричная труба становится качающейся мачтой. Лоточники кричат: „Есть стоять по местам! Есть поднять все паруса!“ Теперь я Христофор Колумб, Дрейк и Нельсон в одном лице. Внося поправки в современную географическую науку, я открываю новые континенты. Я побеждал французов — а это моряки что надо! И в миг победы я погибал. Объявлялся национальный траур, и меня хоронили в Вестминстерском аббатстве. Но в то же время я был как бы жив, и меня посвящали в герцогское звание, И в том, и в другом была своя прелесть, и я никак не мог решить, что лучше. Девятого ноября многие мальчики на уроках отсутствовали: у них, как это явствовало из объяснительных записок, представленных родителями, болели зубы. Д-р Флорет, читая эти объяснения, скептически хмыкал. Десятого ноября эти страдальцы взахлеб рассказывали о грандиозном выезде Лорда-Мэра, Сначала я слушаю их с интересом, но затем голоса становятся все тише и тише, как бы удаляясь. Их заглушает звон колоколов Боу. Я молод, но уже сколотил огромное состояние. В конторе у меня толпится знать. Я одалживаю им миллионы и женюсь на их дочерях. Однажды я услышал, как обсуждают какую-то новую книгу, и, мне захотелось стать великим писателем. Читатели восхищаются моим талантом (то, что есть критики, да еще в таком количестве, я тогда не знал). Стихи, повести, исторические романы — я пишу во всех жанрах; и все меня читают и удивляются. Но я понимал, что путь писателя не усыпан розами. Была ложка дегтя, портящая бочку меда, — приходилось писать, а почерк у меня был никудышный, правописание оставалось тайной за семью печатями, а перо царапало бумагу и оставляло множество клякс. Так что писать для меня была мука мученическая, и я почти что отказался от мысли стать великим писателем.
Но в каком бы направлении мне ни предстояло пробивать себе путь, ведущий к Елисейским полям славы, образование, как я смутно догадывался, сослужит мне верную службу, и я, скрепя сердце и скрипя натруженными мозгами, часами долбил гранит науки, Как сейчас вижу себя в своей каморке: я склонился над книгой, отперевшись локтями на шаткий одноногий стол, то и дело судорожно вскидывая голову, — это мои волосы входят в опасное соприкосновение с пламенем свечи. В холодные вечера я поднимал воротник курточки, кутал ноги в одеяло и подолгу просиживал над учебником, заткнув пальцами уши, чтобы не слышать звуков жизни, назойливо стучащейся в дверь. „Песня, песни, песне, песню, о песне, о, песня! Я люблю, ты любишь, он, она, оно любит“, — зубрю я латинские окончания; мне начинает казаться, что голос мой отделяется от меня; превращается в какой-то шум, существующий сам по себе; голова сохнет, становится все меньше и меньше, и я в ужасе хватаюсь за нее руками, проверяя, много ли от нее осталось.
То ли я был туп по природе своей, то ли просто-напросто мозг ребенка не приспособлен к работе, к которой принуждает ученика наша педагогическая система, сказать не берусь.
— Латынь и греческий, — вкрадчиво нашептывал мне голос, очень похожий на голос д-ра Флорета, — такой же торжественный, непоколебимо уверенный в своей правоте, — очень полезны как гимнастика для ума. — Нет уж, дорогой мой д-р Флорет и иже с ним! Гимнастика делает члены гибкими. Неужто нельзя сыскать другой снаряд, упражняясь на котором отрок сумеет развить свой ум, не испытывая страшного напряжения? Ведь те тяжести, что вы предлагаете, мальчику десяти-четырнадцати лет поднять просто не под силу! А кладезь знаний неисчерпаем, и есть в нем кое-что пополезнее мертвых языков. Любезный читатель! Уверен, ты не дурак; годами ты оттачивал свой ум, выбираясь из всяческих житейских передряг. Возьми с книжной полки томик — ну, скажем, Браунинга, а лучше Шекспира. Открой его на любой странице, прочитай какой-нибудь отрывок. Тебе все понятно? Иначе и быть не может, ведь это твой родной язык. А теперь открой другую страницу и отсчитай десять строк. Нет-нет, читать не надо. Лучше разбери-ка выбранный кусок по членам предложения и по частям речи. Ну что, каково тебе? А что тогда говорить о бедолаге Томми? Видишь, по лицу его текут горькие елезы, оставлял на щеках, перемазанных чернилами, причудливые следы. Ну задали на дом „Басни“ Эзопа или „Метаморфозы“ Овидия — чего ж тут плакать? Что-то тут не так: ведь никому не приходит в голову заставлять детей ворочать стофунтовые гири.
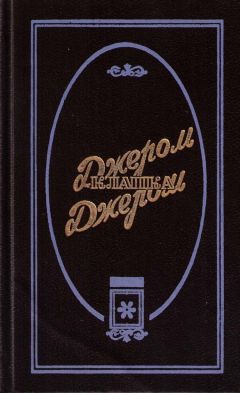
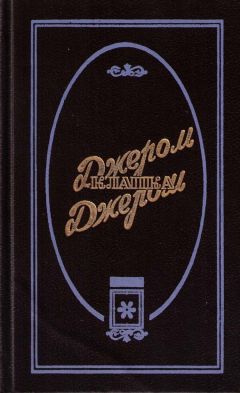


![Мелисса де ла Круз - Ведьмы Ист-Энда. Приквел: Дневники Белой ведьмы[Witches of East End. Prequel: Diary of the White Witch]](https://cdn.my-library.info/books/48380/48380.jpg)
