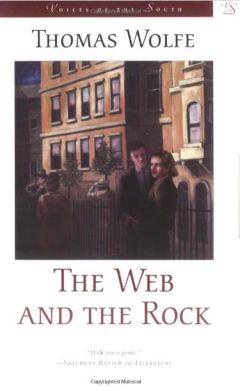— Меня зовут Джордж Джосая Уэббер! — воскликнул мальчик, подскочил и распрямился.
«ДЖОРДЖ ДЖОСАЯ УЭББЕР!»
Это славное имя пронеслось в напоенном светом воздухе; на лету вспыхнуло и озарило трепещущую листву; все листья клена засверкали от гордой вспышки славного, гордого имени!
«ДЖОРДЖ ДЖОСАЯ УЭББЕР!» — воскликнул мальчик снова; и весь золотисто-великолепный день огласился звучанием этого имени; оно вспыхнуло и озарило кроны осин; во вспышке его словно бы дрогнула живая изгородь из жимолости, пригнулась к земле каждая бархатистая травинка.
— Меня зовут Джордж Джосая Уэббер!
Гордое имя вспыхнуло под медный звон колокола на здании суда; вспыхнуло, воспарило и слилось с тремя звучными, торжественными ударами!
«ОДИН!.. ДВА!.. ТРИ!..».
И тут появились чернокожие ребята.
— Привет, Пол!..Эй, Пол!..Как самочувствие. Пол? — выкрикивали они, проносясь перед ним на велосипедах.
— Меня зовут Джордж Джосая Уэббер! — крикнул им в ответ мальчик.
Торжественно, четким строем ребята покатили дальше, развернулись по-военному, не нарушая рядов, и с шелестом колес медленно поехали обратно, четкими рядами по восемь, притормозили, сохраняя полный порядок, и серьезным тоном поинтересовались:
— Как старина Пол чувствует себя?
— Меня зовут не Пол! — твердо ответил мальчик. — Мое имя Джордж!
— Нет-нет, не Джордж! — закричали чернокожие ребята с дружелюбной усмешкой. — Твое имя Пол!
Это было безобидное подтрунивание, какая-то непонятная, непостижимая шутка, какой-то тайный смысл, игривый юмор их негритянской души. Бог весть какой смысл они вкладывали в это имя. Они сами не смогли бы сказать, почему так окрестили его, но для них он был Полом, и ежедневно в три часа, перед тем как рынки откроются снова, эти ребята приезжали и проносились мимо, называя его Пол.
А он упрямо спорил, не сдавался, настаивал, что его имя Джордж, и почему-то — Бог весть почему! — это непреклонное возражение наполняло его сердце теплом и восхищало чернокожих ребят.
Ежедневно в три часа мальчик знал, что они приедут и назовут его «Пол», ежедневно в три часа он дожидался их с теплотой, с радостью, с нетерпением и сердечностью, со странным чувством восторга, очарования, со страхом, что они могут не появиться. Но каждый день в три часа, едва открывались рынки и на здании суда звонил колокол, они появлялись и проносились перед ним.
Мальчик знал, что они приедут. Не обманут его ожиданий. Знал, что восхищает их, что они очень любят смотреть на него — длиннорукого, лопоухого, плоскостопого. Знал, что все его слова и движения — прыжки и подскоки, возражения и твердые настояния, чтобы его называли настоящим именем — доставляют им огромное невинное удовольствие. Словом, знал, что, когда они называют его «Пол», в их подтрунивании нет ничего, кроме теплой симпатии.
Поэтому мальчик ежедневно ждал их появления, и они всегда появлялись! Они не могли обмануть его ожиданий, они появились бы, даже если бы весь ад встал между ними. Незадолго до грех часов во все дни недели, кроме воскресенья, эти чернокожие ребята прекращали сиесту под теплым солнцем у стен городского рынка со словами:
— Пора навестить старину Пола!
Они расставались с приятной вонью тухнущих под солнцем рыбьих голов, прелых капустных листьев и гнилых апельсинов; расставались с облюбованными теплыми местами, с блаженной апатией, с глубиной и мраком африканской сонливости — и говорили:
— Надо ехать! Старина Пол ждет нас! Не подведите нас, ножки; мы пускаемся в путь!
И что это был за путь! О, что за чудесный, планирующий, стремительный, похожий на полет путь! Они появлялись, словно черные молнии; словно вороны, устремляющиеся на добычу; как выстрел из орудия, как удар грома; они появлялись, словно демоны — но появлялись!
Мальчик слышал их приближение издали, слышал, как они мчатся по улице, слышал неистовое бренчанье велосипедных колес, и вот они появлялись перед ним! Они проносились мимо по восемь в ряд, пригибаясь, крутя педали, будто черные демоны; они проносились мимо на сверкающих колесах, негромко тарахтя рыночными корзинками, и при этой кричали: «Пол!».
Потом торжественно, эскадронами, они ехали медленно, степенно назад, глядели на него, замерев в седлах, и обращались к нему:
— Привет, Пол!..Как самочувствие?
Затем начинался парад. Они выделывали поразительные фигуры, устраивали изумительные маневры; проносились мимо по четверо, затем по двое; разбивались на отделения, отступали или наступали эшелонами, проносились поодиночке, словно взлетающие птицы, словно демоны, летящие по ветру.
Потом их охватывали азарт, желание блеснуть индивидуальным мастерством, жажда превзойти других, неистовая изобретательность, эксцентричные причуды. Они вопили с мягким негритянским смехом, выкрикивали друг другу насмешливые замечания, старались переплюнуть остальных, — заслужить аплодисменты и одобрение — все ради Пола! Проносились по улице с быстротой молнии, со скоростью пули; выписывали ужасающие спирали от одного тротуара к другому, едва не врезаясь в бровки; свешивались с седла, будто ковбои, подхватывали с земли свои драные кепочки. И осыпали друг друга такими вот выкриками:
— С дороги, Губастый! Я должен показать Полу кое-что!
— Эй, Пол, — смотри, как ездит старина Быстроногий!
— Посторонись, ребята! Пусть Пол посмотрит на того, кто умеет ездить!
— Уступи дорогу, Черномазый, а то сшибу! Я покажу Полу то, чего он еще не видел! Что скажешь на это, Пол?
И вот так они планировали, петляли, носились, булькающим смехом, добрыми, теплыми голосами окликали его: «Пол!». А потом, словно фурии, умчались в город, к открывшимся рынкам, их мягкие, теплые голоса доносились к нему в сердечном прощании:
— До свидания, Пол!
— Пока, Пол!
— Увидимся, Пол!
— Мое имя, — крикнул он им вслед, — Джордж Джосая Уэббер!
Великолепное имя вспыхнуло и воспарило, гордое, сияющее, как этот день.
И ветер донес еле слышный ответ с теплой, доброй насмешкой:
— Твое имя Пол! Пол! Пол!
И эхо повторило еле слышно, уныло, навязчиво, будто во сне:
— …Пол. Пол. Пол.
Когда тетя Мэй говорила, комната иногда заполнялась призрачными голосами, и мальчик знал, что принадлежат они сотням людей, которых он никогда не видел, и ему сразу же становилось ясно, что это были за люди и что у них была за жизнь. Достаточно было всего каких-то фразы, слова, какой-то интонации этого таинственного джойнеровского голоса, негромко звучавшего вечерами перед догорающим огнем с какой-то безмерной, спокойной безотрадностью, как мальчика окружали неведомые выходцы с того света, и ему не терпелось выследить живущего в нем пришельца из другого мира, отыскать его последнее, тайное убежище в своей крови, выведать все его секреты и заставить все множество чуждых, неведомых жизней в себе пробудиться, воскреснуть.
Однако, несмотря на это, жизнь тети Мэй, ее время, ее мир, таинственные интонации джойнеровского голоса по вечерам в комнате, где угли в камине сверкали и крошились, и где медлительное время терзало, будто стервятник, его сердце, захлестывали мальчика волнами ужаса. Подобно тому, как жизнь отца говорила мальчику обо всем бурном и новом, о ликующих пророчествах освобождения и победы, о торжестве, полете, новых землях, прекрасных городах, обо всем великолепном, поразительном и славном на свете — жизнь материнской родни мгновенно отбрасывала его к какому-то мрачному, таинственному месту в природе, ко всему, что было отравлено медленно тлеющими огоньками безумия в его крови, каким-то неискоренимым ядом в крови и душе, темным, густым, грозным, в котором ему суждено утонуть трагично, ужасно, без надежды на помощь или спасение, с помраченным рассудком.
Мир тети Мэй возник из какой-то безотрадной глуби, какой-то бездонной пучины времени, в котором все тонуло, которое уничтожало все, чем было насыщенно, кроме себя самого, — уничтожало ужасом, смертью, сознанием, что тонешь в какой-то бездне непонятного, незапамятного джойнеровского времени. Тетя Мэй вела скорбное повествование с какой-то спокойной радостью. В той необъятной хронике прошлого, которую вечно сплетала ее поразительная память, было все, что согревает душу, — солнечный свет, лето, пение, — однако неизменно присутствовали печаль, смерть и скорбь, укромные, безотрадные жизни людей в горной глуши. И однако же, сама тетя Мэй не скорбела. Она вела речь о безотрадности и смерти в этом необъятном мрачном прошлом с каким-то задумчивым, непреходящим удовольствием, наводившим на мысль, что все люди обречены смерти, кроме этих торжествующих цензоров человеческой участи, этих бессмертных, всепобеждающих свидетелей скорби Джойнеров, которые жили вечно.