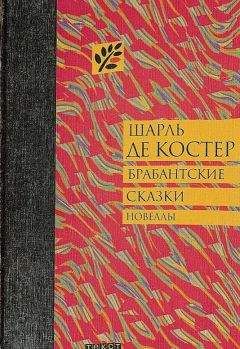Вдруг, свернув на улицу де ля Монтань, он увидел, как прямо ему навстречу шествует, словно гордо бахвалясь красотой, обворожительное создание. Очарованный, он стал столбом, глядя на этот высокий и чистый лоб, облик, одновременно простодушный и сладострастный, нежные и ласковые черные глаза, свежий, как роза, ротик, на который, казалось, сам Бог положил улыбку; из широкого рукава черного бархатного пальто виднелась белая и пухлая ручка, заставляющая мысленно дорисовывать контуры всего остального, такие божественные, что перед ними померкли бы даже округлости святых дев самого Мурильо, поэта форм. Одна рука дамы была в лиловой перчатке, а другая, белоснежная и крохотная, держала преогромный букет фиалок. Ее черную бархатную шляпу украшали ленты цвета анютиных глазок; повсюду цвели фиалки, своей нежной скромностью оттеняя восхитительное сияние ее красоты.
Это была она, она самая, его идеал, искомый, лелеемый; Христосик стоял, онемев от изумления и восхищения. Дама улыбнулась столь простодушному и непосредственному обожанию.
Оба стояли на тротуаре, с полминуты глядя прямо друг на друга. У Христосика словно помутилось в глазах: внутри все закипело, голова закружилась и мозг будто ошпарил пламенный поток мыслей. Он вообразил себя перенесенным в покои дамы; он как будто шел следом за ней, ступая по ковру, который был еще пушистее, чем представлялось ему в мечтах; на стенах сверкали всевозможные роскошные и модные безделушки; такие же лежали на этажерках, украшали мраморные камины и отражались в бесчисленных зеркалах, обрамленных матово поблескивавшим золотом. Он видел себя там, среди шикарно одетых мужчин и дам, сплошь таких же красавиц, как она сама. Она кокетничала, насмехаясь над ним, а он не мог стереть с лица смуглый загар, а с жилистых рук — мозоли. Он чувствовал, как его задевают оскорбительно-вежливые взгляды, как раздражают реплики с двойным смыслом, ответить на которые подобающе он не способен; лицемерная елейность и благодушие речей причиняли ему сильную душевную боль. Ему захотелось прирезать всех этих денди, тогда бы он не казался их женушкам таким недотепой, (б один миг в нем пробудилось сразу все дурное: тщеславие, неуместная гордыня, жажда суетного успеха обузили его душу и сжали ее будто в тисках. Счастливый трудяга, беспечный, простой и добрый, превратился в светского хлыща, лицемерного притвору. И в этот миг он страдал так, как еще никогда не страдал.
Он так и стоял столбом на тротуаре, ничего не видя, ничего не слыша, погруженный в мечту, полный восторга.
— Извольте посторониться, мужичье! — вдруг произнес насмешливый голос красавчика лакея..
Христосик обернулся и увидел слугу в голубой, расшитой золотом ливрее.
Машинально он отступил, пропуская слугу, потер глаза, как будто его только что разбудили, отряхнулся и не пришел в себя до тех пор, пока не потерял из виду даму, которая с гордым достоинством удалялась, поддерживая руками широкие складки своего шелкового платья.
Чтобы пробудиться от дурного сна, ему все — таки хватило одной минуты.
— Эге, — тихо рассмеялся он себе под нос, — вот. куда меня занесло-то, э-ге-ге-ге-ге!
Неделю спустя Христосик женился на Луизе.
А та доказала, что была права, говоря, что немного радости могло бы ей вернуть былую прелесть. Она счастлива, и она настоящая красавица.
Все его звали попросту Жером; старик, он был крепыш, живой как ртуть; и бодрый духом, и по-юношески статный, он был всем мил — ведь редкость в мире красота поры закатной; и вот он отошел в последний путь. Он умер, не вздохнув, не сетуя, не плача; промолвив лишь: «А думал — сколько добрых дел еще б я совершил; но тот, кто Всемогущ, иначе все решил — что ж, уступаю место, пожелав новоприбывшему удачи».
Все деревенские жители в рабочей одежде шли следом за гробом, мужчины, дети и женщины, и я прекрасно видел, как потрясла его смерть эти простые сердца, как в глубине души все скорбели о нем.
А ведь его, старика Жерома, считали за сумасшедшего; и в самом деле, обладать состоянием и спать на соломе, предпочесть суете наших городов леса, поля, уединение и деревенскую тишь, заботиться обо всех вокруг, а самому долгие и долгие месяцы жить одиноким волком — да что ж еще надо, чтобы добрые крестьяне подумали, что вы совсем лишились ума?
Я познакомился с ним вот как. Однажды в сентябрьский денек я одиноко бродил по лесу в послеполуденный час и присел на мох на краю поляны, вересковые заросли которой, трепетавшие под свежим ветерком, казались совсем розовыми. Я прислушался: казалось, роща пела. Вокруг меня и над моей головой были солнце, цветы, высокие кроны деревьев, свежий воздух. Меня переполняло счастье, и вдруг очень захотелось курить, а у меня не было при себе ни трубки, ни табаку, и никакого способа их раздобыть. Усилием юли мне приходилось подавлять это желание, уже становившееся навязчивой идеей. Рассеянность охватила меня, я разволновался и погрустнел. Чувство счастья словно из-под носа унес дьявол. Мимо прошли несколько крестьян; они не курили. Я страдал. Мои смехотворные муки тянулись с добрый час, пока наконец я не услышал позади треск ветвей — кто-то продирался сквозь густые заросли. Вот он вышел из них, и он курил. Я подскочил к нему и без церемоний спросил, не найдется ли у него трубки и табаку. Он протянул мне свою, только что набитую. Я осведомился, кого мне благословлять за такую удачу, и он ответил, что его зовут Жером.
Поскольку добро, данное мне взаимообразно, следовало ему возвратить, я пошагал рядом с ним. Сперва он все больше помалкивал. Следуя его примеру, я проявлял такую же сдержанность; однако, перебросившись со мной несколькими короткими словами, он наконец разомкнул уста и понемногу разговорился. Жером выглядел человеком крепкого сложения, лет шестидесяти на вид, — но L какая юная душа в этом пожившем теле, сколько жизни чувствовалось в той краткости, с которой он выражал восхищение природой, какое прямодушие, какое замечательное вольнолюбие, какая сила! С первого взгляда он показался мне одним из по-настоящему простых людей, понемножку встречающихся там и сям ^здравый смысл и мыслящий дух, язвительный по отношению ко всякой суетности./Его сердце исполнено было той самой прекрасной поэзии, которая суть не что иное, как чувство истины и справедливости.^ Но позже я понял, что в стремлении его духа ко всему фантастическому есть много немецкого влияния; стоило ему увлечься, и сами мысли для него становились диковинными существами, исполнявшими свои роли в таинственной драме. Быть может, именно поэтому крестьяне и считали его склонным к безумию.
Он имел порядочное состояние, чтобы ничего не делать, и все-таки трудился, работал в поле, рисовал, корпел над науками, каждый день обогащал свои знания.
Вот мы уже и на дороге, ведущей к Эспинетту.[10]
— Не хотите ли выпить и закусить? — спрашивает Жером.
— И то и другое, — отвечаю я.
— Так входите же.
Тут мы как раз оказались перед большой одноэтажной фермой, чья соломенная крыша довольно точно изображала спину огромной рыбы.
Внутри был большой камин, он наполовину потух, но догоравшие дрова еще потрескивали в нем. Гостиная, остов которой был стрельчатой формы без потолка, так что она располагалась прямо под открытым небом, походила на готическую часовню и была обита старинной фламандской кожей; по стенам были развешаны скелеты людей и животных, ковчежцы, чучела птиц и разные виды оружия со всех краев света. Посреди этой выставки редкостей, намеренно повешенный так, чтобы самые яркие лучи солнца играли на нем, казалось, излучал сияние роскошный женский портрет. Под этим портретом, который, совершенно очевидно, был средоточием всех мыслей старика, стояла скрипка, его любимый музыкальный инструмент.
Жером сам накрыл на стол; пока мы с ним беседовали, отзвенели все ночные часы; солнце уже всходило, когда я, взволнованный до глубины души и уже полюбивший моего нового друга, как отца родного, покинул его.
Прошло немного времени, и я снова посетил его — и Бог свидетель, как часто я приходил к нему по уши забрызганным лесной грязью и промокшим до нитки. Вскоре он понял, как я привязался к нему, и мало-помалу, начав с нескольких слов, невзначай оброненных в разговоре, принялся рассказывать мне о своей жизни. Родился он в Генте, был художником, и, глядя на портрет, висевший на стене, я не сомневался в его таланте. Однажды, указав мне на этот портрет, он вымолвил: «Ее никак нельзя было назвать ангелом — нет, это была настоящая женщина, вот за что я и любил ее. Стремительная как молния, искрометная как шампанское, складная как пшеничный колосок, беспечная словно пташка небесная, она всю свою жизнь была для меня всем на свете, как и я был всем для нее. У меня не было в жизни никакой другой любви. Мы не клялись друг другу в верности, никогда не говорили, что любим друг друга, но мы самоотверженно посвятили друг другу наши жизни. Она была из той породы фламандских женщин, для которых слова ничего не стоили, главное — деяния, а обманывать невозможно. В тот день, когда она разлюбила меня, она просто сказала: уходи.