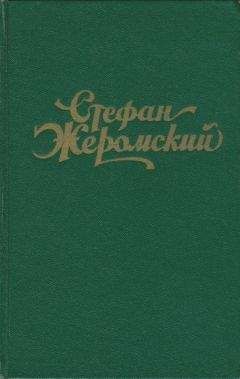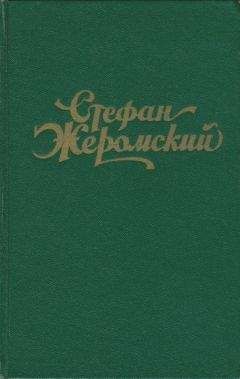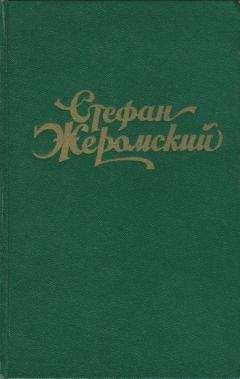— Нет, сейчас я уже вспомнил. Я не знал вашей фамилии, но лицо помню. Вы и Свожень жили вместе на Смольной… Верно?
— Свожень, — шепнул доктор. Губы его сжались, и на подушку скатилась одинокая слеза…
— Может, тебе лучше не разговаривать, Зыгмунт? — сказала пани Поземская с такой нежностью, что Радусский в эту минуту весь сжался.
— Я хочу поговорить с паном Радусским, — просипел больной, дергая бессильными пальцами нитку, выбившуюся из одеяла. — Одна у меня радость осталась, и той не даете мне… Вон! — прошипел он, дико сверкнув глазами.
— Но вам, может быть, вредно, доктор? — тихо заметил Радусский.
— Ну и не разговаривайте со мной, черт возьми!
— Но…
— Все разбежались, когда от меня завоняло. Все, до единого. Ни одна собака сюда не заглядывает вот уже шесть недель. Слышите! Небось пока я угощал обедами да вином, друзей да приятелей было хоть отбавляй!
— Обычная история…
— Обычная история! Вот именно, обычная история… Вы давно здесь живете?
— Несколько недель.
— Слыхали, что со мной случилось?
— Нет, ничего не слыхал.
— Вот видишь, Марта? Даже в этом паршивом Лжавце обо мне уже забыли. Даже здесь!
— Доктор! Я тут совсем чужой. Не удивительно, что мне не случилось говорить о вас…
— Бросьте, не утешайте меня! Обычная история, вы же сами… Вчера — уважаемый, известный, знаменитый и притом, заметьте, эксплуатируемый кем попало, лечащий даром доктор Поземский, а сегодня стряслась беда… и доктора как не бывало. А эти скоты, которых я бесплатно лечил, к которым таскался по ночам, наверняка уже нашли другого и молятся на него. Садитесь‑ка сюда, я вам все расскажу по порядку.
— Зыгмусь… — снова отважилась остановить больного пани Поземская.
На минуту доктор замолчал, сдвинув брови и прикусив губу. Бросив на жену ядовитый взгляд, он нарочно заговорил громко, с видимым усилием:
— Так вот, сударь, был я здесь вольнопрактикующим врачом. На заработки жаловаться не приходилось, работы было много, даже слишком много. Но ничего, тянул, работал с воодушевлением. И вот подите же, такой случай… Шел я по предместью, обычным своим маршрутом, по Камёнке — не знаю, бывали ли вы там… Позвали меня в убогую хату, не помню уж, кто, и я пошел на свою погибель. Хатенка стояла на самой окраине, неподалеку от усадьбы, — может, вам случалось бывать в тех местах? У какого‑то старика, который делает памятники…
— А…
— Вы что, знаете эту хибарку?
— Нет, нет…
— i ак вот, был у него жилец, какой‑то батрак, уволенный с работы. Как я потом выяснил, он занимался чем придется: свежевал палых лошадей и коров, носил евреям воду, чистил нужники. Вошел я туда и увидел этого оборванца в вонючих лохмотьях… Боже мой! Осматриваю я его, не очень тщательно, так как времени было в обрез, да и платы я, разумеется, не ждал, — и не могу понять, что с ним. На первый взгляд мне показалось, что это сифилис. На теле у него были глубокие гнойные язвочки прескверного вида. Пока я с ним возился, он развлекал меня беседой, и, поскольку он был сильно простужен, то и дело чихал мне в лицо. Беседовали мы так довольно долго, и вдруг эта сволочь проговорилась, что обдирает шкуры с палых лошадей. У меня уже тогда мелькнула мысль, что это сап, но я очень спешил и как‑то перестал думать об этом. Больной был в тяжелом состоянии, помочь ему было трудно. Я вымыл руки и ушел. Прошло несколько дней. Дело было в августе прошлого года. Тут как раз у нас затевался пикник, танцы в лесу, потом вечеринка у адвоката Кощицкого. Было это дня через четыре после того случая. В лесу меня познабливало, что‑то странное творилось с руками и ногами. Но я не обратил на это внимания. Только вечером, у Кощицкого за винтом, я немного встревожился: что это может значить? Уж не тиф ли я подхватил? В голову волнами ударял какой‑то странный жар, сердце сжималось, ныли мускулы и суставы не то, чтобы болезненно, скорее как‑то занятно… Вы меня слушаете? Помню, я вышел в соседнюю комнату, хотел собраться с мыслями. Я был во фраке и подумал тогда: а может быть, мне просто холодно? Ко мне подошла одна из наших красоток и стала со мной назло Марте, как говорится, флиртовать. И вот, когда я слушал ее милый щебет, меня вдруг как обухом по голове: а что, если это капелька той слизи? Сударь, я много пережил с тех пор, но не помню минуты страшнее, чем та, когда я улыбался своей даме. Вы меня понимаете? — и протянул Радусскому скрюченную руку с неразгибающимися пальцами, страшную, как мысль, о которой он говорил. — Ну а спустя неделю я уже доподлинно знал, что это malleus humidus farciminosus… сап. Коллеги, здешние эскулапы, консилиум за консилиумом. Отправили меня в Варшаву. Там то же самое… И теперь вот смотрите…
Он с трудом откинул одеяло и показал гостю свои ноги. Левая, распухшая, коричневая, была покрыта омерзительной сыпью, какая бывает при оспе. Кое — где образовались темные взбухшие гнойнички. Больной некоторое время рассматривал свои ноги, потом показал на грудь, вернее, на плотные повязки, закрывавшие больное тело.
— Видите, — сказал он, усмехнувшись, — вот как награждает мать — природа врача, того, кто ради ничтожного гонорара годами вдыхает трупное зловоние, а потом всю жизнь нюхает, осматривает, исследует и ощупывает всякие язвы и раны, самые отвратительные человеческие болезни, выделения и испражнения. Любой батрак, любой лакей, последний холуй с отвращением откажется делать то, что приходится делать врачу. А ведь он должен не только облегчить страдания, но и вылечить больного. Вот она, сударь, справедливость‑то!
— Пан Поземский… — начал было редактор.
— Подождите, не перебивайте! Жизнь улыбнулась мне, когда я приехал сюда. Эльжбетка росла здоровым ребенком… А теперь? А теперь? Марта! — крикнул он вдруг. — Марта, больно! Больно! О чертовка, больно, сука ты… больно, больно!
— Где, маленький, где, родненький мой?
— С правой стороны, дура… Я тебя!.. Под правым коленом… Марта, Марта…
— Ну потерпи, мой бедный, мой бедненький, сокровище мое единственное… Тише, тише… Еще рано менять повязку… Может быть, пройдет, может быть, пройдет… — шептала она, совершенно забыв о госте. Вот когда Радусский увидел, каким бывает взгляд этих чудных глаз, и понял, почему они обычно так печальнозадумчивы!
Доктор мычал от боли и скрипел зубами. По его щекам ручьями текли слезы. Пани Марта нежно осушила платком мокрые глаза.
— Может, ты бы теперь немножко заснул… — неустрашимо прошептала она ласковым голосом.
— Я уже сказал тебе, убирайся к черту! — простонал больной. — Я буду разговаривать с паном Радванским или как его там, потому что мне хочется отдохнуть, отдохнуть… Вы подумайте, я отложил уже тысячу рублей. Теперь все пошло прахом. Уже шесть месяцев я ничего не зарабатываю! Вот вам, сударь, удел вольнопрактикующего врача…
— Пан Радусский, он слишком много разговаривает, — сказала докторша, робко поглядев на гостя. — Надо прекратить…
— Посмей только! По морде дам!
— Пойдемте, сударь, пойдемте, — проговорила Поземская, кивнув головой на больного. На ее губах застыла неописуемая потерянная улыбка, о которой она словно забыла. Когда они вышли в гостиную, Радусский сел против докторши и, заикаясь, комкая фразы, стал расспрашивать, как они живут. Он столько раз извинялся за свою назойливость, что она не могла понять, чего ему, собственно, надо.
— Вы хотите знать, сколько у нас слуг? Остались две служанки. Одна присматривает за Эльжбеткой, — я совсем забросила девочку, — а кухарка готовит, прибирает и иногда помогает мне ухаживать за Зыгмунтом. Его нельзя оставлять одного, и кто‑нибудь всегда…
— Кто‑нибудь?
— Да, обычно это я. Вы ведь слышали, как он шумит и бранится. Кухарка славная женщина, но долго не может выдержать, он начинает драться, плеваться…
— Ну, а врачи, фельдшера?
Поземская слабо усмехнулась.
— Прежде, — сказала она, — приходили, то один, то другой, на ночь или на часть ночи. И сейчас, случается, зайдет кто‑нибудь, но редко. Мы истратили все деньги, вернее, почти все, и они ужасно боятся, как бы у них не попросили в долг…
— Сударыня, не позволите! ли вы мне, хоть я и не врач и не фельдшер, заходить иногда к вам, почитать больному, может быть, подежурить ночью…
— Могу ли я вам отказать? Но… что скажет Лжавец, здешние ханжи? Я очень прошу вас…
Она подняла на него глаза, и бледный румянец, как розовое утреннее облачко, пробился на ее щеках.
— Марта, Марта! — раздался крик из соседней комнаты.
VIНа следующий день Радусский отправился к больному доктору ранее принятого для визитов часа. Когда его впустили в квартиру, он застал там еще больший беспорядок, чем накануне. Гостиная и кабинет были загромождены всякой утварью и мебелью, перенесенными сюда из других комнат, кажется, даже из чулана и кладовой. Радусский тихонько прошел в спальню. Доктор спал, но странным сном, похожим скорее на смертельное изнеможение, чем на отрадное забытье. Голова его бессильно покоилась на подушке, страшно бледное и худое лицо с черными провалами глазниц было как у мертвого, и лишь стоны, вырывавшиеся из полуоткрытого рта, свидетельствовали о том, что в этом теле еще теплится жизнь. На полу возле софы, с той стороны, куда было обращено лицо больного, лежал матрац без простыни. Верхний угол подушки почти соприкасался с подбородком больного. Легкое светло — голубое атласное одеяло лежало рядом.