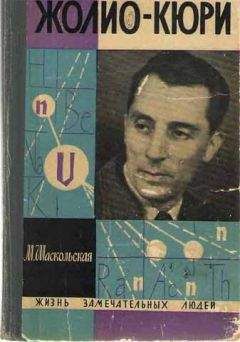Статья о моем предисловии была озаглавлена «Про смертяшкиных», и в ней говорилось: «По древней заповеди надлежит о мертвых ничего не говорить или говорить только хорошее». Цветаева умерла в 1941 году. Пятнадцать лет - это слишком большой срок для поминок. И. Г. Эренбург, задержавшись на поминках, продолжает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и рвать на себе волосы… Цветаева повторяет зады Смертяшкина… Нам жаль усилий Эренбурга. Положительно зря возводит он в перл поэтического творения «дорожные грехи праздношатающейся музы» (выражение П. Вяземского)». Другая статья заключала такое суждение: «Эренбург дал в альманах предисловие к книге стихов Марины Цветаевой, книге, еще не вышедшей в свет, пытаясь утвердить за декадентствуюшей поэтессой, чье имя и поэзия не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку забвения, право на сочувственное внимание массы читателей».
Стихи Цветаевой были изданы пять лет спустя, и «канули и реку забвения» не ее имя и поэзия, а имена и статьи ее хулителей…
Осуждали решительно все, что я писал. О Бабеле, например, я говорил чересчур хвалебно: «Запутанность мировоззрения делала И. Бабеля художником крайне ограниченным». Разругали две странички, написанные для сборника памяти Л. Н. Сейфуллиной. Не обошлось дело и без художников - президент Академии художеств воскликнул: «Писатель Эренбург восхваляет творчество таких формалистов, как Леже и Брак!»
Однако наибольший шум вызвал мой очерк «Уроки Стендаля». Я перечитал теперь несколько статей и откровенно скажу - не понимаю, почему так рассердил блюстителей «основоположных принципов» именно этот очерк. Видимо, он появился в неподходящее время - ведь два года спустя на меня не накинулись за книжку «Перечитывая Чехова», хотя уроки Антона Павловича совпадали с уроками Стендаля да и были куда понятнее молодому русскому читателю. Критики меня упрекали за «маскировку», но на самих критиках были маски: они много рассуждали о романтизме и реализме, об отношениях между Стендалем и Бальзаком, о замалчивании мною трудов российских стендалеведов, о раскрытии, на их взгляд неуместном, сердечных дел Анри Бейля (хотя Стендаль это делал во многих своих книгах). Вероятно, критиков разозлил Стендаль, написавший на нолях рукописи «Люсьена Левена»: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор».
Прошу читателей простить мне столь длинный рассказ о давних литературных неприятностях. Право же, я сделал это не для того, чтобы пококетничать былыми царапинами. Я хотел показать все бессилие атаковавших и стихи Марины Цветаевой, и прозу Бабеля, и живопись импрессионистов, и художественное мышление Стендаля. Конечно, люди, читавшие тогда «Знамя» или «Октябрь», не могли познакомиться с поэзией Цветаевой или с холстами Сезанна, но критикам не удалось оттолкнуть читателей от меня. Критики «согласовывали» свои оценки с тем или иным товарищем, но согласовать со временем ни своей хулы, ни своих острот они не могли. Время подтвердило одно, перечеркнуло другое.
Может быть, думали нападками сломить меня? Когда-то молодой Тихонов написал стихи о людях, из которых можно было делать гвозди. Из моих сверстников многие погибли, многие, не выдержав испытаний, умерли, но некоторых уцелевших время переплавило; мы действительно стали гвоздями. Мы стали неисправимыми и печальными оптимистами. «Гвозди» оказались склонными к тому, что в литературе называют романтической иронией: они посмеивались и друг над другом, и над различными молотками. Это воистину особое племя. Для меня те годы были хорошим испытанием, я понял: можно писать и нужно писать. Когда я отходил от машинки и спускался по крутой тропинке моего сада к речке, я думал о том, что стало последним заданием моей жизни, о книге воспоминаний.
В апреле 1957 года, как я упоминал, я поехал в Японию; об этом путешествии я написал очерк, в котором главным образом хотел показать общность истоков культуры, путь эллинского Диониса в Индию, Китай, Корею, а оттуда в японскую Нару, влияние японских эстампов на художников Франции второй половины прошлого века и многое другое. В книге воспоминаний я хочу рассказать о забавных мелочах да и отметить, какую роль сыграла поездка в Японию в моей жизни.
В Японию я поехал с Любой, нас пригласил специальный комитет, созданный для «приема Ильи Эренбурга». В комитет входили представители общества дружбы Япония - СССР, переводчики русской литературы и работники японского Комитета мира. Деньги дали большая газета «Асахи» и радио. Все было поставлено на широкую ногу. В Фукуоке молодой человек вынес из комнаты гостиницы наши чемоданы в коридор. Люба удивилась. Тогда, поклонившись, он протянул ей визитную карточку, как то делают все в Японии. Текст был напечатан по-японски и по-русски, и мы узнали, что молодой человек «третий секретарь комитета в Фукуоке по приему советского писателя Ильи Эренбурга». Не знаю, что было сказано на его обычной визитной карточке, но, видимо, он гордился временным титулом.
Токио самый большой город мира, в нем тогда было около десяти миллионов жителей, он и самый беспорядочный - многие улицы не имеют названия, дома часто без номеров, адрес скорее рисуют, чем диктуют. Сами японцы путаются. Мы прожили там две недели, много колесили и в итоге находили все, что искали.
Япония - своеобразная страна - то живешь в Азии, то в Америке, то в Европе. Универмаги, большие заводы, вокзалы, аэродромы напоминают Америку. Увеселительная часть Токио скопирована с парижского Монмартра. Приходя в себя, японец у входа в дом снимает обувь и начинает жить по-японски. Японские дома светлы и пусты, о такой современной архитектуре не смели мечтать Корбюзье или наши конструктивисты двадцатых годов: раздвижные стены, комнаты путешествуют, вещи в стенных шкафах, на стене одна картина, в нише одна ваза.
Я привык к особенностям японского быта, но мои ноги не могли к ним привыкнуть. В городе Нагоя мы остановились в японской гостинице. Вечером стелили на полу постели. Одеваться было очень трудно, а отдохнуть невозможно. Молодой переводчик Хара пришел к иам в комнату и вскрикнул от ужаса: увидел на циновке туфли Любы. Она его долго успокаивала: вынимая платье из чемодана, она вынула туфли - она в них не пришла с улицы.
Помню ужин в Киото; нас угощал мэр города, социалист, он вел серьезный политический разговор о сближении между нашими странами. Это не помешало ему пригласить гейш, которые дали нам розовые визитные карточки, угощали рисовой водкой, улыбались, а потом танцевали и пели. Ужин происходил в японском ресторане. Мы сняли обувь на улице и прошли в зал в носках. Я вытянул ноги под столом и часа два спустя почувствовал, что они замлели. В беседу о развитии экономических и культурных связей ворвались неподходящие мысли: как я встану, чтобы не уронить престиж Советского государства?
Один японский писатель показал мне низенький игрушечный столик: «Здесь я написал мой роман…» Я изумился: романов я написал вдоволь, но написать шестьсот страниц, сидя на полу, показалось мне чудом.
На собраниях, в клубах, в университетах грязно - циновок нет, японцы сидят обутые и кидают окурки на пол. Зато в любом доме идеальная чистота. Крестьянский дом похож на дом городского богача. Люба, конечно, замечала, что циновки другого качества, но для мужского глаза они кажутся одинаковыми.
Религий и сект много. Если взять статистику, то окажется, что синтоистов и буддистов вместе взятых больше, чем всех японцев: многие крестьяне молятся в синтоистских храмах, а хоронят умершего по буддийскому обряду. Однако я не назвал бы Японию страной религиозной: молятся скорее но привычке, чем от обилия чувств. В Токио я видел, как шла по улице парочка: элегантный японец, сноб, с хорошенькой девушкой. Они оживленно о чем-то разговаривали. Подойдя к синтоистскому храму, оба захлопали в ладоши - так молятся синтоисты, а потом пошли дальше, продолжали разговор, останавливались у витрин модных магазинов. В Фукуоке вокруг буддистского храма бегали спортсмены, касаясь ладонями камней. Оказалось, что это больные, жаждущие исцеления. Чудо не заменяет для них медицины, но почему бы не попробовать: а вдруг вылечатся?…
Меня удивила откровенность в разговорах. Того флера, к которому я привык в Европе, не было. Нас повели в дом богатого японца; выяснилось, что тридцать лет назад он переделал для театра мой роман «Трест Д. Е.». Одновременно портные принесли дорогие материи, чтобы Люба выбрала ту, что ей нравится для кимоно. Люба отказывалась - ей не нужно кимоно, но пришедшие с нами японцы объяснили: хозяин хорошо заработал на инсценировке «Треста Д. Е.», следовательно, материя должна быть самой дорогой. В другой раз Хара - молодой, уговаривая нас выпить чай с тостами, добавил: «Это очень дешево, не стесняйтесь». Жены писателей рассказывали Любе, как изменяют им мужья. В эссе «Похвала тени» знаменитого писателя Танидзаки я нашел рассуждения, что нет ничего прекраснее, чем писсуары из криптомерии и по тону, и по аромату дерева, и по его акустическим возможностям.