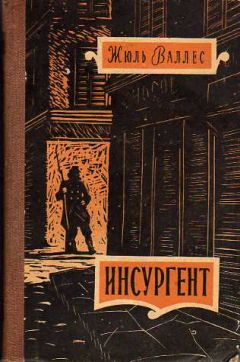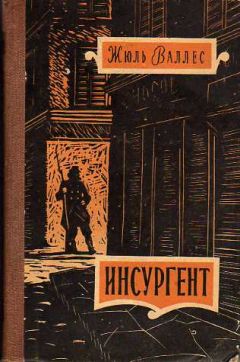Объясняемся... не без труда. Девушка чего-то боится.
— Плевать я хочу! Мы пришли и не уйдем! — заявляет Тренке и прислоняется к стене, как часовой.
Появляется буржуа в коротеньком пиджаке с вытянутой физиономией.
— Что вам угодно, господа?.. — произносит он, обращая на нас свой мрачный, — и какой еще мрачный! — взгляд.
Голос его слегка дрожит, также и руки.
Короткое молчание.
Надо начинать!
— Вам, конечно, известно, милостивый государь, письмо господина де Кератри, где он предлагает всем депутатам в ответ на декрет об отсрочке открытия Палаты[87] явиться к Бурбонскому дворцу в день и час, когда согласно закону должна была открыться сессия. Народное собрание постановило потребовать от представителей Парижа, чтобы они категорически высказались по этому поводу, и поручило нам добиться их присутствия на заседании, где народ выразит свою волю... Вы придете?
Руки его продолжают дрожать; такой широкоплечий и как будто решительный с виду, он, по-видимому, в замешательстве.
— Я не отказываюсь. Но я должен посоветоваться со своими коллегами. Я поступлю так, как они.
— Мы передадим ваши слова кому следует, — провозгласил я тоном сентябриста[88].
Мы поклонились и вышли.
Теперь на площадь Мадлен.
— Можно видеть господина Жюля Симона?
— Войдите, господа.
Вот он, знаменитый чердак.
Многого о нем не скажешь. Это, конечно, не крысиная нора, но далеко и не дворец, запрятанный под крышу.
У Симона вкрадчивые, кошачьи движения, жесты священника, он закатывает глаза, как святая Тереза в истерическом припадке, на языке у него елей, кожа лоснится, губы сморщены, как гузка рождественского гуся. Он узнает меня и идет навстречу, протягивая пухлые потные пальцы.
— Мой бывший и уважаемый соперник...
Я заложил руки за спину и отошел в сторону, предоставив другим опросить этого субъекта.
Как и Ферри, он отвечает что-то неопределенное — он, мол, тоже явится, если так решит его группа.
На лестнице обсуждается мой отказ от рукопожатия.
Мильер возмущается. В качестве старшего он обвиняет меня в том, что я наношу оскорбления из личного самолюбия, и заявляет, что не потерпит, чтобы следующие посещения нарушались подобными выходками.
Он пойдет теперь к г-ну Тьеру[89], но будет «вежливым», — прибавляет он, глядя на меня.
— Будьте, чем вам угодно! Что до меня, так я оставляю за собой свободу не прикасаться к руке врага.
— Вы прекрасно поступили! — одобряет меня молодежь.
Я поступил так, как мне нравилось. Я не признаю ни за кем, даже за старшим, права распоряжаться моими рукопожатиями.
Но как не пожать лапу этому благодушному толстяку с рыжими бакенбардами, с огромным животом и раскатистым смехом, который, прежде чем я еще успел выставить клыки, жужжит мне прямо в ухо:
— А, ругатель, как поживаете? Вы можете быть довольны, что так здорово разделали нас в вашей «Улице»! Да, нечего сказать!
И, похлопывая меня по тому месту, где полагается быть брюшку, он спрашивает, что привело нас к нему.
— Итак, господа, чего же наконец хочет народ? Может быть, он прислал вас за моей головой? Так, видите ли, у меня есть одна маленькая слабость: я дорожу ею. Знаете... старая привычка...
Его слова и вся его фигура дышат добродушием[90].
У этого пальцы не дрожат, они выбивают на столе мотив песенки «Мамаша Годишон», а голова его вертится на туловище пингвина с легкостью и подвижностью колибри.
— Так вам надо знать, пойду ли я на демонстрацию двадцать шестого?..
— Двое из ваших коллег уже дали свое согласие.
— На это мне, положим, наплевать!..
— Значит, вы не придете?
— Ни в коем случае! Подставлять свою голову, не зная, как повернется дело?.. Да вы с ума сошли, мой милый!
Он смеется, и вы невольно смеетесь вместе с ним, потому что этот по крайней мере хоть не виляет.
— Если Бельвилль[91] победит, — я буду тут как тут. Но втягивать его в это дело насильно, разыгрывать Брута... нет, дети мои, это не для меня! Я ни во что не впутываюсь, не даю никаких обещаний. Нет, нет!
И он щелкает ногтем по зубам.
— Все вы кажетесь мне добрыми малыми и достаточно убежденными для того, чтобы дать разбить себе башку. Я, конечно, преклоняюсь перед такими головушками, но свою прячу подальше... Да! кстати, ругатель, вы мне приписали фразу: «Манюэль[92] был героем, но он не был переизбран». Я этого не говорил, но действительно так думаю... Ну, до свидания! Честное слово, можно подумать, что вы все только и мечтаете о том, как бы поскорее отправиться на тот свет. А я вот цепляюсь за жизнь, — таков уж мой вкус! Да оно и понятно, черт возьми: вы — тощие, я — тучный... Осторожно, там ступеньки! Да, послушайте: если вас упрячут в тюрьму, я принесу вам сигар и бургонского. И какого еще!
Он свешивается через перила и посылает нам всей пятерней звонкий, многообещающий поцелуй.
Пельтан[93]. Голова апостола.
Он и в самом деле пророчествовал. Это — начетчик революции, бородатый миссионер, пропагандирующий республиканскую веру; у него манеры, взгляд и жесты капуцина, члена Лиги[94]. С кропильницей Шабо[95] в руках он изгонял беса из июньских инсургентов и отлучал их через решетки подвала Тюильри. Одержимый, — он вполне искренне считал их мерзавцами и продажными.
Что-то скажет он нам?
Ничего особенного... он тоже должен посоветоваться со своими коллегами. И он простер к нам свои волосатые руки, как бы благословляя нас.
— Аминь! — протянул, гнусавя, Эмбер.
Наш обход окончен.
А Гамбетта?
Гамбетта придумал ангину; он прибегает к ней всякий раз, когда опасно высказывать свое мнение.
Меня не проведешь этим трюком, я знаю, под чью он пляшет дудку.
Но рискованную игру ведут те, кто насмехается над народом. Сейчас у них ангина так, в шутку, но настанет день, когда им перережут горло всерьез.
Жюль Фавр[96] разорвал наше требование, даже не читая, и его толстые губы скривились в гримасу величайшего презрения.
Видел ли Мильер Тьера? — Не знаю. Во всяком случае, если он его и встретил, то не нахлобучил ему на уши его серую шляпу, — уж это наверно!
Бансель[97] в отъезде, в провинции.
Явятся ли они?
Зал Бьет, бульвар КлишиОни явились.
По расшатанной лестнице поднялись они в залу с голыми стенами, освещенную коптящими лампами и уставленную вместо кресел старыми школьными скамьями.
В глубине, на подмостках, сооруженных из толстых побеленных досок, поставили стол и несколько соломенных табуреток.
Там народные представители будут сидеть, как на скамье подсудимых; с этой плохо обтесанной трибуны совесть предместий голосом нескольких деклассированных, одетых в пальто или куртки, произнесет свое обвинение и будет поддерживать его перед судом, — судом из пятисот или шестисот человек, чей приговор хотя и не будет иметь силы закона, не станет от этого менее грозным для тех, кого он покарает: перст народа заклеймит их.
Я стою в группе, где страстно разглагольствуют и жестикулируют.
Обсуждают, кого бы предложить аудитории в качестве председателя.
Жермен Касс[98] интригует, упрашивает, бегает взад и вперед, — старается быть на виду...
Мильер надел свою самую широкополую шляпу и похож в ней на квакера. С напряженным, горящим под очками взглядом, с сжатыми губами и нервными жестами, он требует для себя этого отличия из уважения к его прошлому и возрасту и обещает, — при этом он жует слова, как члены секты аиссуа[99] жуют стекло, — быть Фукье-Тенвиллем[100] собрания.
Решено предложить его кандидатуру. Вожакам даются соответствующие указания. Один только Касс плачется и ворчит; он охотно вцепился бы зубами в икры Мильера, если б только посмел. Но какой-то кузнец, услышав, как он скулит, быстро усмиряет его; он затихает и забивается в угол с оскаленной пастью, но с поджатым хвостом.
Вот и они!
Ферри, Симон, Бансель, Пельтан.
Их появление встречают ропотом. Они сразу должны догадаться, что попали во вражеский лагерь. Едва сторонятся, чтобы дать им пройти.
Где они, эти трубачи и офицеры, эти фанфары и этот кортеж, которые обычно сопровождают председателя Палаты; где они, эти швейцары в черном, с серебряной цепью на груди?
Здесь только плохо одетые люди.
Среди собравшихся депутаты Парижа могут заметить социалистов, уже выступавших на публичных собраниях; сейчас они, бледные и решительные, обдумывают обвинительные речи, которые произнесут от имени суверенного народа.