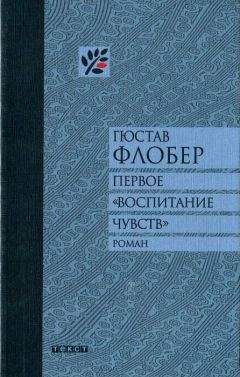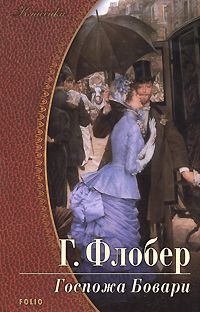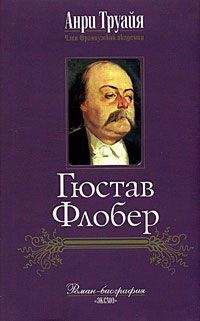Я устроился в кулисах, присев на стоявший там ларь, я трогал руками декорации, разглядывал актеров и актерок вблизи, окидывал взором пустой зал и представлял себе его многолюдным и огромным, в тысячу раз более его истинных размеров, освещенным и полным звуков, блиставшим от яркого света и буйства красок. Я всей грудью вдыхал театральный запах — одно из счастливейших воспоминаний детства — или, задрав голову кверху и вовсе не слушая пьесу, а паря надо всем в уж не знаю какой прихотливой грезе, где мешались искусство и любовь, — предавшись чарующей фантазии, сквозь которую проступает чувственность, а вдали слышатся звуки фанфар; а то разглядывал бахрому на плаще арлекина, трепещущую от свежего ветерка, проникавшего сюда через распахнутые окна, перед тем распушив кроны каштанов, бросающих свою тень на Оружейную площадь.
Бернарди отыскал меня там и спросил, что я думаю об исполнителях. Как мне сдается, ответ мой вовсе не был глуп, он остался доволен, ибо взял меня за руку и отвел к двум женщинам, сидевшим на задах сцены на грубо сколоченной скамье.
— Разрешите представить вам, — отрекомендовал он, — две жемчужины в моей короне, мать и дочь, мадам Пернель и Эльвира, они же Фираминта и донья Соль, мадам Артемизия и мадемуазель Люсинда. Сударыни, — прибавил он более серьезным тоном, — позвольте представить вам мсье, принадлежащего к числу моих здешних друзей, очень достойного ценителя изящного, большого любителя редкостных талантов и обожателя красивых женщин — вот две причины, каждая из которых достойна вашего внимания.
Старшая из дам улыбнулась мне, а молодая, не привстав, кивнула. Головы обеих прикрывали шелковые накидки, облекавшие их целиком, словно плащи, что не позволяло мне из-за царившей в зале полутьмы разглядеть их лица, я приметил только глаза старухи, сверкавшие под полями ее шляпки, когда она переглядывалась с Бернарди, и неясный профиль молодой дамы, которую, казалось, все происходящее нимало не трогало. Но потревоженная кем-то декорация внезапно пропустила пучок света, и мне удалось ее разглядеть целиком. Она сидела без шляпы, светло-пепельные локоны на английский манер с необычайной фацией падали на ее обнаженные и чуть подрагивающие, будто в полусне или от холода, плечи; но она действительно дрожала и куталась в свою длинную голубую накидку, упорно натягивая ее себе на руки и колени. Накидка была из старого кашемира с длинной алой бахромой и покрывала всю девицу с головы до ног; та, накинув ее поверх гребня, сидела неподвижно, уставясь взглядом на кончики туфелек, легонько и дробно постукивала ими по полу; белая атласная туфелька шуршала, задевая подол платья, голубого в белых цветах с широкой фалбалой, начинающейся чуть выше колена и обрисовывающей его контур. На ней были также ажурные чулки с вышивкой по бокам, а сами туфельки поражали своей тонкостью, словно она сидела босиком, и походили более на перчатки, нежели на обувь: нога казалась гибкой и нежной, будто рука.
Что за прелестная головка, Анри! И какое восхитительное создание сидело передо мной! Я слишком длинно пишу тебе об этом, но надо было ее видеть с этими огромными глазами в тени полуопущенных ресниц и задумчивым лбом! Именно такая дремлет в наших грезах, вся в шелку, на эбеновом ложе, ее и только ее следует осыпать цветами, чтобы убедиться: ее кожа розовее роз, или драгоценными каменьями, чтобы потом эти же камни выбросить вон, предпочтя им мягкий свет ее зрачков; именно ее должно летом возить на прогулки в лакированном ландо, запряженном четверкой лошадей, нежно укачивая на пружинистых рессорах, почивающую на самых шелковистых материях, разодетую в муслин, душистую, свежую, словно букет. Ах, как бы пошла ей роскошь! Она внушает странное желание быть богатым, богатым ради нее, чтобы ее жизнь протекала без пут и барьеров, без резких толчков и длилась сладостно, как в тех грезах, где слышится музыка. Да, она создана, чтобы провести весь век в гамаке, овеваемая легчайшими ветерками, колеблясь вместе со стеблями цветов и желтогривыми волнами хлебных колосьев, вдали от людских жилищ, высоко над облаками, выше всех высочайших ледников, облаченная внушаемой ею любовью и насаждая ее в мире, как бы с высоты небесной; именно рядом с таким созданием захочешь почувствовать, что возносишься к звездам, к свету, в области вечного экстаза, а полет твой — стремительнее орлиного и плавней лёта диких вяхирей; вот тут-то ты сольешься с нею душой и расточишься дымком ладана, который медленно-медленно исчезает, вознесясь в пространства безграничной чистоты и истончаясь там вконец.
И потом, какая артистка! Вечером я видел ее в «Антони», в роли Адель Эрве, ей присуща манера говорить, немного растягивая слова, выпевая окончания и чуть напирая на конец стиха, как бы превращая его в псалом, но иногда ее голос с модуляциями флейты взмывает вихревой чредой душераздирающих вскриков или подъемлется ввысь взрывом ярости с безнадежными рыданиями в конце; а подчас он исходит томно, как вздох, тогда из уст выплывает тихое слово, исполненное неги, подобно тому как в оркестре — едва слышные и млеющие от полусонного томления ноты, что разливаются в воздухе после целого урагана, поднятого виолончелями и рокочущей медью.
Мое место было на авансцене, в первом ряду скамей, я весь перегнулся к рампе и чувствовал, как по моим волосам пробегает ветерок, когда она, шурша юбками, проходила мимо; тогда я поднимал голову, взирая на нее снизу вверх. Как только занавес упал, я отправился на подмостки повидать Бернарди и увидел ее снова в уборной, трепещущую от эмоций роли, все еще во власти игры, с улыбкой на устах от никак не смолкавших криков «браво» и между тем подбирающую локон, выпроставшийся из прически в последней сцене. Выручка была для воскресного дня неплохая, Бернарди глядел молодцом, и вся компания отправлялась обедать — а я, я-то снова поплелся по всем нашим улочкам и понуро возвратился в отчий дом с ужасной пустотой в душе.
Я бы хотел жить с ними, самому стать комедиантом, играть вместе с Люсиндой, быть Антони, который обращается к ей на «ты» и сжимает ее в объятьях. О, как я проклинал всю эту мою добропорядочную жизнь и собственное семейство! Почему небо не позволило мне появиться на свет, пусть одиноким и бедным, но, по крайней мере, свободным, как цыган или пастух? Я был бы сильнее, и мне очень даже кажется, что нищета прибавила бы мне величия. Я бессчетно возвращался мыслию к той утренней встрече, к репетиции, на которой присутствовал, к вечернему представлению, к Бернарди, к Люсинде и всем остальным: к актерам и фигурантам, к двум-трем заурядным лицам слуг или жандармов, виденным мною у дверей театра и теперь преследующим меня с тем же постоянством, что и прочие. Я не спал всю ночь, до наступления дня непрестанно вертелся с боку на бок, беспокойный, в смятении от этих мыслей, теснившихся в мозгу вместе с тысячей других мелочей, я тихо преисполнялся упований, влюбленный, грезил о славе, но, тотчас впадая в отчаянье, терял надежду, готовясь принять смерть; или же вдруг быстро набрасывал в уме план произведения, обещающего быть великим, намечая все его высоты и измеряя глубины. Черепицы с крыш напротив дома, еще влажные от мелкого дождика, выпавшего под вечер, мрачно поблескивали под луной, и блики проникали ко мне через окно, поскольку занавеси я не задернул; они играли в изножье кровати, в складках покрывала, и мне припомнилось то странное сияние, облекавшее мертвенную бледность Гектора, когда он у Вергилия кровавым призраком предстает обезумевшему от ужаса взгляду Энея.[36]
На следующее утро по дороге в контору встречаю Бернарди, он собирается позавтракать в заведении «Кофе по-французски», я отправляюсь вместе с ним: был мой черед платить. Он угадал, что я задумал писать, я изложил ему план своей драмы и даже прочитал из нее одно явление наизусть; он пришел в восторг.
— Хотите, мы поставим ее здесь? — предложил он. — Донью Изабеллу сыграла бы Люсинда. Ну же, решайтесь, смелее! Прочтите все это нам сегодня вечером, после спектакля.
Я ничего не отвечал.
— Так как? Что с вами? Решено? — переспросил он.
Я сжал его руку, не говоря ни слова, и посмотрел испытующе в глаза, желая убедиться, что он не смеется, ошеломленный, как бедняк, к которому кто-нибудь подошел бы со словами: «Хочешь стать богатым?» Я не смог сдержать улыбки, так радостно сделалось на сердце. Был уже час пополудни, но что с того! Я проводил его до театра. Затем возвратился на свою галеру. Вошел с видом презрительно-торжествующим и едва не расхохотался: хозяин конторы стал сурово отчитывать меня за пренебрежение распорядком; вздумай он сопроводить упреки пощечиной, он бы вряд ли получил сдачи — так я был счастлив и весел, богат и полон сил, настолько мне стало жалко бедного малого, который на меня кричал, я так сочувствовал ему! «Ну же, я на тебя нисколько не сержусь, — твердил я про себя, — ни на твою глупость, ни на твое бесстыдство, с миром, переводи бумагу, клерк, чего тебе еще, лакей, собачья падаль, а мне уже ничего здесь не нужно, ну же, папаша, очини свое перышко, выводи свою цифирь, зарабатывай себе на кусок хлеба, безмозглая скотина, ну, давай!»