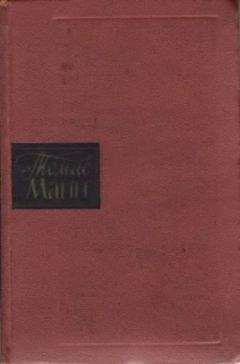И, конечно, бессмысленной была бы попытка представить себе блаженства рая, иными словами — жизнь в божественной роще «Радость», иначе как в образе полного счастья.
Даже омрачающее «поначалу», разумеется, неведомое в горних странах, собственно, не делает разницы между «здесь» и «там», поскольку оно исходит не из сознания любящих, а из господствующего над ним сознания рассказчика и, следовательно, несет с собою лишь повествовательное, а не личное омрачение. И все же надо сказать, что очень скоро это «поначалу» стало просачиваться в личное, более того, — с первых же мгновений и здесь уже играло свою роль, по-земному ограничивающую, по-земному обуславливающую и не вяжущуюся с понятием рая. Приходится еще отметить, что пышнобедрая Сита допустила ошибку, выполнив милостивое приказание богини таким образом, каким это случилось с нею, — и притом случилось не потому, что она действовала в слепой поспешности, но потому, что действовала не только в слепой поспешности. Эта фраза хорошо нами продумана, и желательно, чтобы она была столь же хорошо понята.
Нигде не сказывается сохраняющее мир волшебство Майи, основной жизненный закон мечты, морока, самовнушения, что держит в плену все живое, — ярче, насмешливее, чем в любовной тоске, в таинственном вожделении одного существа другим, вожделении, которое является смыслом и примерным образцом всего, что продолжает свой род, всех соитий и всех соблазнов, всего, что влачит убогую жизнь и нуждается в прельстительном обмане для того, чтобы жить и впредь. Недаром Утеха — хитроумная жена бога любви, и недаром эта богиня зовется «Одаренная Майей», ибо она, а никто иной делает видения прелестными и вожделенными, вернее сообщает им такую видимость; да и в самом слове «видение» уже содержится чувственный элемент видимого, а «видимое» в свою очередь сближается с «видным», иными словами — с прекрасным. Это Утеха, божественная шутница, явила на берегу речки Золотая Муха обоим юношам, и в первую очередь созревшему для воодушевления Шридаману, мерцающее красотою, благоговейно волнующее, достойное молитвенного преклонения тело Ситы. И здесь надо вспомнить, как счастливы и благодарны были друзья, когда купальщица обратила к ним голову и они убедились, сколь прелестны ее носик, уста, глаза и брови, иными словами, что сладостное тело не унижено, не испорчено некрасивым лицом, — непременно надо об этом вспомнить, чтобы понять: человек одержим не столько предметом своего вожделения, сколько вожделением как таковым, и жаждет не отрезвления, но хмеля и любовной тоски, пуще всего страшась разочароваться, то есть освободиться от морока.
Теперь обратите внимание на то, в какой мере волнение юношей, окажется ли и мордочка купальщицы столь же прелестной, доказывает зависимость тела (его смысла и ценности, предусмотренных Майей) от головы, которой оно принадлежит! Прав был Камадамана, укротитель желаний, объявив голову наиважнейшим из членов человеческого тела и на этом утверждении построив свой приговор. Да, голова и вправду определяет сущность и любовную ценность тела, и недостаточно сказать, что тело становится другим, будучи связано с другою головой, — куда там: допустите, что изменилась одна только черта, одна выразительная складочка на лице, и это уже значит, что изменился весь облик человека. В том-то и заключалась ошибка, по ошибке совершенная Ситой. Она почитала себя счастливой, что совершила ее, ибо райским блаженством (и, видимо, уже заранее!) представлялась ей возможность обладать телом друга под знаком мужней головы. Но Сита не подумала, — так как поначалу счастье, которым она наслаждалась, не допускало этой мысли, — что тело Нанды в единении с узконосой головой Шридамана, с его кротким задумчивым взором и шелковистой веерообразной бородкой, уже не то самое, жизнерадостное тело, а тело совсем другое.
Другим было оно с первой минуты, по самой своей Майе. Но не только о ней здесь речь. Ибо с течением времени — времени, которое Сита и Шридаман поначалу проводили в упоении сладострастием, в несравненных любовных восторгах, — вожделенное и наконец-то обретенное тело друга (если тело Нанды под знаком головы Шридамана можно было еще считать телом друга, поскольку пребывавшее вдали тело законного мужа принадлежало теперь другу), — итак, с течением времени, и притом недолгого, тело Нанды, увенчанное достопочтенной головою супруга, совершенно независимо от какой бы то ни было Майи, мало-помалу сделалось иным — то есть под влиянием головы и диктуемых ею законов сделалось привычным мужним телом.
Таков общий удел, обычная перемена в браке. Печальный опыт Ситы в этом отношении мало чем отличался от опыта других женщин, которые в привычном супруге очень скоро перестают узнавать игривого, пламенного юношу, некогда за них посватавшегося. Но здесь зауряд-человеческое было особо подчеркнуто и обосновано.
Решающее влияние Шридамановой головы, сказывавшееся уже в том, что супруг и повелитель Ситы облекал свое новое тело не в одежды, обычные для Нанды, но в свои прежние, а также в его решительном нежелании, по примеру Нанды, умащать тело горчичным маслом: у него от этого запаха болела голова, почему он и пренебрегал народным косметическим средством, что сразу же явилось известным разочарованием для Ситы. Разочаровывало ее, пожалуй, и то, что поза Шридамана, когда он сидел на полу, определялась, — впрочем, об этом едва ли нужно упоминать, — не телом, а головой, он не признавал сиденья на корточках — излюбленное положение Нанды — и всегда садился бочком. Но все это были только мелочи начальной поры.
Шридаман, внук брахманов, и в теле Нанды продолжал быть тем, кем он был, и жить, как жил прежде. Не будучи ни кузнецом, ни пастухом, а купцом и купеческим сыном, пособлявшим отцу в его почтенной торговле, он со временем, так как родитель стал быстро дряхлеть, успешно возглавил ее. Шридаман не держал в руках тяжкого молота и не пас скота на горе Пестрая Вершина, а покупал и продавал щебенку, камфару, шелк и ситец, а также ступки для риса и трут, снабжая этим товаром жителей «Благоденствующих коров», а в свободное время читал Веды. И ничего нет удивительного, хоть в остальном и очень удивительно звучит эта история, что на нем руки Нанды утратили свою мощь и сделались тоньше, грудь стала узкой и даже впалой, живот опять затянулся жирком, — короче говоря, для Ситы он вскоре снова приобрел мужний облик. Даже завиток «счастливого теленка» у него хоть и не вовсе исчез, но так поредел, что его уже трудно было принять за отметину Кришны. Сита, его жена, с тоскою это отмечала. И все же нельзя отрицать, что результатом такой действительной, а не только навеянной Майей перечеканки, распространившейся даже на цвет кожи, которая сделалась заметно светлее, явилась известная утонченность, облагороженность, если понимать это слово отчасти в брахманском, отчасти же в купеческом смысле; ибо меньше и тоньше сделались руки и ноги Шридамана, нежнее колени и лодыжки и все вообще, — словом, радостное тело друга, в прежнем сочетании бывшее самым главным, теперь превратилось в вялый придаток головы, благородным и возвышенным порывам которой оно больше не могло и не стремилось повиноваться в райской полноте счастья и отныне разве что составляло этой голове довольно скучливую компанию.
Таков был брачный опыт Ситы и Шридамана, правда, пришедший к ним после несравненных восторгов медового месяца. Конечно, этот опыт не зашел столь уж далеко, и нельзя утверждать, что тело Нанды окончательно и полностью обратилось в тело Шридамана и что все, следовательно, осталось по-старому, отнюдь нет. Эта история ничего не преувеличивает, а только подчеркивает относительность телесного превращения, при всей его неоспоримой очевидности, достаточной для понимания того, что речь здесь идет о взаимодействии между головой и прочими членами, а также, что его сущность и своеобычность как-никак подчинялась законам видоизменения и приспособления, которые, поскольку речь идет о природном явлении, видимо, объясняются взаимосвязью соков головы и тела, а с точки зрения познания сущего восходят к взаимосвязям и более высоким.
Существует красота духовная и красота, взывающая к чувствам. Однако многим хочется целиком и полностью отнести красоту к чувственному миру и решительным образом отделить от нее духовное, то есть расщепить эти два мира и противопоставить их друг другу. На этом ведь зиждется и древнее учение, изложенное в Ведах: «Двоякое блаженство дается нам в мирах — через радости тела и в спасительном спокойствии духа». Но из этого учения о блаженстве уже явствует, что духовное не может быть противопоставлено красоте таким образом, каким ей противопоставляется уродливое, и что приравнять дух к уродству можно лишь условно. Духовное не равнозначно уродству и не всегда должно с ним совпадать, ибо оно приобщается к красоте путем познания красоты и любви к ней, а любовь в свою очередь проявляет себя как духовная красота, и потому она отнюдь не обречена на безнадежность и не чужда области красоты; ведь в согласии с законом притяжения противоположностей и красота стремится к духовному, им восхищается, уступает его домогательствам. Не так создан наш мир, чтобы духу суждено было любить лишь духовное, а красоте лишь прекрасное. Более того, именно то, что эти два понятия друг другу противоположны, позволяет нам с ясностью, столь же духовной, сколь и прекрасной, прозреть, что мировой целью является объединение духа и красоты, иными словами — совершенство, уже не расколотое надвое. История же, которую мы здесь рассказываем, всего-навсего пример опасностей и ошибок, встречающихся на пути к этой конечной цели.