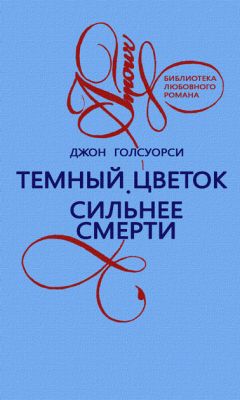Ознакомительная версия.
Потом она долго бродила по парку. Был уже вечер, когда она вышла из ворот, в которые входила утром полная надежд. Ей удалось, ни с кем не встретившись, подняться к себе, но она не чувствовала себя в безопасности, пока не разделась и не легла в постель. Главное, чтобы не прошло это ощущение бесконечной, отупляющей усталости, чтобы духовные и физические силы не возвратились, пока она не окажется вдали от этих мест. Она не будет ни есть, ни пить — только спать, если сумеет. А утром, если есть ранний поезд, можно уехать, пока никто не встал; ее муж должен будет обо всем позаботиться, все устроить. Что он при этом подумает и что она скажет в объяснение, это еще успеется решить. Да и не все ли равно? Главное — это не встречаться больше с Марком, потому что второй раз вынести такую внутреннюю борьбу она не в силах. Она позвонила и сказала удивленной горничной, чтобы та позвала к ней мужа. Но пока она ждала его прихода, гордость в ней возмутилась. Он не должен видеть! Это невозможно! И, встав с постели, она успела положить себе на лоб платок, смоченный одеколоном. Он явился сразу же, быстрыми бесшумными шагами вошел в комнату и остановился, глядя на нее. Не заговаривал, не спрашивал, что случилось, а просто стоял и ждал. И, как никогда прежде, ясно она поняла, что он как бы начинается там, где кончается она, начинается на том уровне, откуда, как нечто святотатственное, безжалостно изгнаны чувства и инстинкты. Она призвала всю свою храбрость и проговорила:
— Я гуляла в парке, и, наверно, солнце напекло мне голову. Мне хотелось бы завтра же утром уехать домой, если ты не против. Неприятно стеснять чужих людей.
Кажется, на его лице мелькнула улыбка, но оно сразу же сделалось серьезным.
— О, — сказал он, — разумеется. Последствия небольшого солнечного удара сказываются несколько дней. Но сможешь ли ты перенести дорогу?
И внезапно она почувствовала, что он понимает все, но, что поскольку все понимать значит для него чувствовать себя смешным, он заставляет себя верить, что ничего не знает. Благородно это с его стороны или отвратительно?
Она закрыла глаза и сказала:
— У меня сильная головная боль, но все равно я доеду. Только мне бы не хотелось подымать тут переполох. Нельзя ли нам уехать, пока они еще будут спать?
И услышала, как он ответил:
— Ну что ж. В этом есть свои преимущества.
Затем стало совершенно тихо, но он, она знала, был еще рядом. Это немое, недвижное присутствие — отныне вся ее жизнь. Да, да, таково ее будущее — без чувств, без движения. И, несмотря на страх, ей мучительно захотелось взглянуть на это свое будущее. Она открыла глаза. Он стоял на том же месте, в той же позе и смотрел на нее. Но его опущенная рука, как бы за рамой картины, нервно сжималась и разжималась над карманом куртки. И внезапно Анна почувствовала жалость. Не к себе или к своему будущему, воплощенному в этой картине, а к нему. Как страшно стать таким — человеком, изгнавшим чувства, как страшно! И она мягко сказала:
— Мне очень жаль, Харолд.
Словно он услышал что-то странное и недопустимое, глаза его болезненно расширились, он спрятал в карман нервно сжимавшуюся руку, повернулся и вышел.
Когда Марк нашел Сильвию у большого камня-дольмена, он мог бы удивиться больше, не знай он наверняка, что найдет ее здесь, ибо он видел, как она сюда направилась. Она сидела, поджав ноги, и смотрела на воду, и соломенная шляпка болталась у нее за спиной, открыв солнцу чуть золотящиеся волосы, в которых в ту ночь запуталась его звезда. Он неслышно подошел по траве и немного поодаль решил остановиться. Если ее спугнуть, она убежит, а у него не хватит духу за ней погнаться. Как тихо она сидит, вся охваченная своими думами! Если б увидеть, какое у нее сейчас лицо. Наконец он негромко сказал:
— Сильвия!.. Можно мне побыть тут с вами?
И, видя, что она не шевельнулась, он подошел. Не может быть, чтобы она все еще на него сердилась!
— Большое вам спасибо за подарок — такая красивая книга!
Сильвия не ответила. Он прислонил удочку к камню и вздохнул. Ее молчание было несправедливо; что же, интересно, он должен, по ее мнению, сказать или сделать? Стоит ли жить, право, если вот так все и держать про себя?
— Я ведь не хотел вас обидеть. Я ужасно не люблю никого обижать. Просто мои фигурки такие плохие, я не могу, когда на них смотрят, а особенно вы; я хочу, чтобы вам было приятно, честное слово. Вот. Только и всего. Право же, вы могли бы меня простить, Сильвия!
За оградой послышалось какое-то движение, зашуршали листья, в папоротниках что-то метнулось — олень, должно быть. И он повторил, мягко, настойчиво:
— Право же, вы могли бы не мучить меня, ну, Сильвия!
Она отвернулась и скороговоркой произнесла:
— Теперь уже не в этом дело. Теперь уже совсем другое.
— Другое? Но что же?
— Ничего… просто я теперь не иду в счет… когда…
Он стал возле нее на колени. Что она подразумевала? Но разве он не знал, что?
— Как так вы не идете в счет? Больше всех идете! Ну, пожалуйста, Сильвия, развеселитесь! Я так не люблю, когда грустят! Не грустите же, Сильвия!
И он стал ласково гладить ее по руке. На душе у него было странно, смятенно; ясно понимал он только одно: что не должен ни в чем признаваться. И, словно угадав эту мысль, ее глаза вдруг заглянули ему прямо в душу. Она вырвала несколько травинок и сказала, заплетая их в косичку:
— Теперь она идет в счет.
Вот оно! Нет, он не станет отрицать. Это было бы предательством. Даже если она больше и не идет в счет — да и так ли это? — все равно сказать такое было бы низко, подло. В глазах у него вновь появилось то выражение, из-за которого профессор сравнил его однажды с попавшим в беду львенком.
Сильвия тронула его рукав.
— Марк!
— Что?
— Не надо.
Он встал и взял удочку. Что проку оставаться здесь, когда он не может, не должен говорить?
— Вы уходите?
— Да.
— Вы сердитесь? Ой, пожалуйста, не сердитесь на меня.
Он почувствовал комок в горле, наклонился и поцеловал ее руку, потом вскинул удочку на плечо и зашагал прочь. Оглянувшись на ходу, он видел, что она сидит все так же, под большим камнем, и глядит ему вслед, маленькая, одинокая. У него было такое чувство, что ему некуда сейчас идти, что его место — лишь среди птиц, зверей и деревьев, которым все равно, даже если на душе у тебя смутно и тяжко. Он лег в траву у реки. Видно было, как маленькие форельки вьются в воде над камнями; а в воздухе низко над ним носились взад-вперед ласточки; лохматый шершень прилетел и побыл с ним немножко. Но его ничто не развлекало, точно дух его был в заточении. О, если бы стать этой водою, бежать, не останавливаясь, все дальше, дальше; или ветром, что притрагивается ко всему, но никогда никому не дается в руки! Что бы ты ни делал, обязательно причинишь кому-то боль — вот что ужасно. Быть бы, как эти цветы: вырос, прожил свою жизнь сам по себе — и нет тебя! А сейчас что бы ты ни сказал, ни сделал, все будет либо ложь, либо жестокость. Остается только не показываться никому на глаза. Но как можно не показываться на глаза собственным гостям?
Он вернулся домой ко второму завтраку, но оба гостя отсутствовали, — где они, никто толком не знал. Несчастный, потерянный, обескураженный, слонялся он повсюду до самого вечера. А перед обедом ему сообщили, что миссис Стормер плохо себя чувствует и что завтра они уезжают. Уезжают — не прошло и трех дней! Он еще больше затосковал и растерялся. И окончательно погрузился в унылое безмолвие. Он понимал, что привлекает к себе внимание, но ничего не мог с собой сделать. Несколько раз за время обеда он ловил на себе пытливый взгляд Горди из-под припухших полуопущенных век. Но он просто не мог выговорить ни слова. Все, что приходило ему в голову, было фальшь, ложь. О, как печален был этот вечер, отмеченный неотступным видением чужой душевной раны, за сердце хватающим чувством какого-то конца, не сбывшихся чужих надежд. И вместе с тем непроходящим чувством растерянности, недоумения: «Разве я мог что-нибудь с этим поделать?» И все время — жалобное лицо Сильвии, на которое он изо всех сил старался не смотреть.
Он ушел, оставив Горди и своего профессора за недопитым вином, и долго блуждал по саду, печально слушая, как кричат совы. С облегчением он вздохнул, только когда можно уже было наконец подняться к себе, хотя, разумеется, уснуть он и не мечтал.
Однако он уснул. И спал всю ночь, и видел сны, и под утро ему приснилось, что он лежит на склоне горы и Анна, заглядывая ему в глаза, все ниже наклоняется над ним. Он проснулся, когда ее губы коснулись его губ. Весь еще во власти этого смятенного сновидения, он вдруг осознал, что за окном слышен скрип колес и стук лошадиных подков по гравию. Он выскочил из постели. Так и есть: от крыльца отъезжала коляска, на козлах возвышался старый Годден, возле него — чемоданы и картонки, а в коляске друг против друга сидели Стормеры. Уезжают вот так, даже не попрощавшись! На мгновение он испытал такое чувство, какое бывает, наверно, у человека, неумышленно сделавшегося убийцей: он застыл, совершенно подавленный и несчастный. Но потом с отчаянной торопливостью принялся одеваться. Он не позволит ей так уехать! Он должен во что бы то ни стало еще раз ее увидеть! Что он сделал, почему она вдруг уезжает? Он ринулся вниз по лестнице. В гостиной никого. Без девятнадцати минут восемь! Поезд отходит в восемь ровно. Довольно ли времени, чтобы оседлать Болеро? Он бегом бросился в конюшню, но лошади там не оказалось: ее увели в кузницу. Но он все равно непременно должен поспеть. Тогда она по крайней мере увидит, что он не окончательный подлец. До поворота он шел, потом бросился бежать. Уже через четверть мили на душе у него сделалось гораздо легче, он перестал чувствовать себя таким виноватым и несчастным, — все-таки это совсем другое дело, когда перед тобою трудная задача и все прочее ушло на задний план: надо экономить силы, выбирать на бегу кратчайший путь, держаться теневой стороны, стараться не задохнуться, когда бежишь в гору, и лететь, набирая скорость, когда дорога идет под уклон. Было еще прохладно, и роса прибила пыль; никто не ехал навстречу, и не было пешеходов, которые останавливались бы и глядели ему вслед. Что он сделает, если добежит в срок, как будет объяснять этот сумасшедший трехмильный пробег, — об этом он не думал. Осталась позади ферма, которая, как он знал, находится как раз на полпути. Часы он не взял. Собственно говоря, он успел натянуть только брюки, рубашку и куртку — ни галстука, ни шляпы, ни даже носков под теннисными туфлями на нем не было. От бега он страшно разгорячился, волосы развевались — необычное зрелище для всякого, кто бы ни повстречался по пути. Но он утратил все чувства, кроме воли добежать. С поля на дорогу высыпало стадо овец. Он пробрался между ними, но потерял несколько секунд. Осталось больше мили; а он уже задыхается, и у него вот-вот подкосятся ноги! С горы они, правда, бегут сами собой, но впереди — ровный участок пути, ведущий к станции; и уже слышно, как поезд, неторопливо пыхтя, катит по долине. Тут, усталости вопреки, дух его воспрянул. Нет, он не влетит на перрон совершенным чучелом, в полном изнеможении, на радость зрителям. Надо будет под конец взять себя в руки и войти легким шагом, словно с прогулки, от нечего делать. Но как? Ведь он того и гляди рухнет прямо в пыль и так и останется лежать навеки! И он попытался на бегу, как мог, стереть пот и пыль с лица, отряхнуть одежду. Вон уж и вход на перрон — осталось ярдов двести. Поезда он больше не слышал. Должно быть, стоит уже у платформы. Из его перетруженных легких вырвалось рыдание. Уже у входа на перрон он услышал свисток кондуктора. И тогда, не подымаясь к кассе, он свернул и побежал вдоль перронной ограды. Там был открыт багажный выход, Марк устремился в него и едва успел отпрянуть в заросли жимолости: мимо медленно двинулся паровоз. Марк провел рукавом по лицу, чтобы смахнуть пот. Перед глазами у него все плыло. Нет, он должен увидеть ее: не для того же он все-таки успел, добежал, чтобы так ее и не увидеть! Он провел ладонями снизу вверх по лбу и волосам и, преодолевая дурноту, стал глядеть на медленно идущий мимо поезд. Вон она, в окне! Стоит и смотрит! Он не выступил вперед, потому что боялся упасть, но протянул руку!.. Она заметила его. Да, да, она заметила! Подаст ли она ему знак? Неужели не подаст? И тут он вдруг увидел, как она рванула платье у себя на груди, выхватила что-то и бросила к его ногам. Он не поднял: он хотел до последнего мгновения видеть ее лицо. Оно было чудесным — бледное и очень гордое. Она поднесла руку к губам. Потом перед глазами у него опять все затуманилось, а когда он пришел в себя, поезда уже не было. Но у ног его осталось то, что она ему бросила.
Ознакомительная версия.