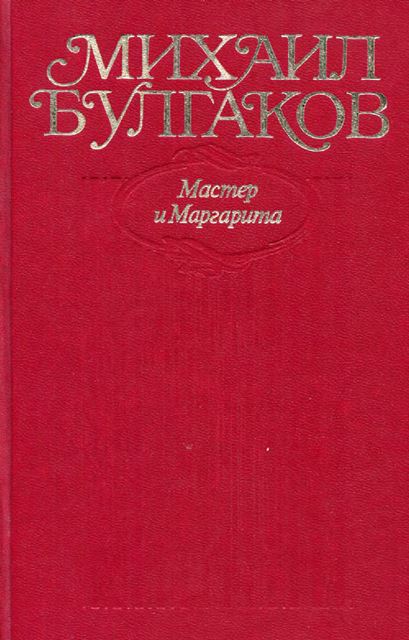class="p1">Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
— Один в пяти комнатах в Перелыгине, — вслед ему сказал Глухарев.
— Лаврович [90] один в шести, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита!
— Э, сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в том, что половина двенадцатого.
Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному № 930 и, конечно, никого там не нашли.
— Он мог бы и позвонить! — кричали Денискин, Глухарев и Квант.
Ах, кричали они напрасно: не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем.
На первом — обнаженное, в засохшей крови, тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на другом — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на третьем — груда заскорузлых тряпок.
Возле обезглавленного стояли: профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Массолиту — литератор Желдыбин.
Машина заехала за Желдыбиным и, первым долгом, вместе со следствием, отвезла его (около полуночи это было) на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг.
Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком?
Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все двенадцать литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича: все столики на веранде, натурально, оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах.
И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» [91] Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.
Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта [92], какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку, плясали виднейшие представители поэтического подраздела Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице.
Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад.
И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой.
Но нет, нет! Лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!..
И вдруг за столиком вспорхнуло слово: «Берлиоз!!» Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что, что, что, что?!!» — «Берлиоз!!!» И пошли вскакивать, пошли вскрикивать...
Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф [93].
Да, погиб, погиб... Но мы-то ведь живы!
Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы!
Натурально, рояль закрыли на ключ, джаз разошелся, несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Желдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Желдыбин вызвал к себе из ресторана всех двенадцать членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием.
А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до четырех часов утра, если бы не произошло нечто, уже совершенно из ряду вон