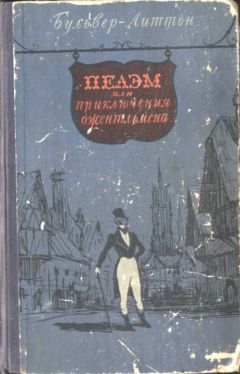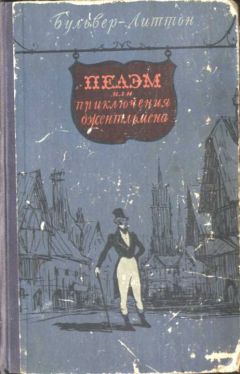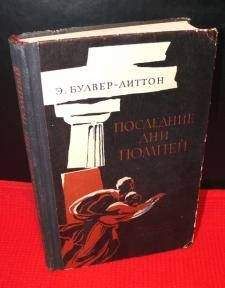«Ради всего святого, – закричал Тиррел голосом, полным смертельного ужаса и доныне преследующим меня, – пощадите мою жизнь!»
«Слишком поздно», – невозмутимо произнес Торнтон, и, взяв нож из моих рук, он вонзил его сэру Джону в бок, а так как лезвие было недостаточно длинное, чтобы задеть жизненно важные органы, стал поворачивать его в ране, стараясь ее углубить. Тиррел был человек сильный, он продолжал бороться и молить о пощаде; Торнтон вынул нож из раны, Тиррел схватил его за лезвие, и Торнтон, вырывая нож из рук Тиррела, сильно поранил ему пальцы. Несчастный джентльмен понял, что надежды больше нет: он издал громкий, пронзительный вопль отчаяния. Одной рукой Торнтон зажал ему рот, другой перерезал горло от уха до уха.
«Вы погубили его и нас вместе с ним», – сказал я, когда Торнтон медленно поднялся с колен. «Нет, – ответил он, – смотрите, он еще двигается». И действительно, он еще трепетал, но уже в предсмертных судорогах! Все же для верности Торнтон еще раз вонзил нож в тело; лезвие наткнулось на кость и сломалось надвое. Удар был так силен, что отломавшийся кусок лезвия не застрял в ране, а упал на землю и затерялся среди длинных листьев папоротников и трав.
Пока мы заняты были его розысками, Торнтон, у которого слух был острее моего, уловил приближающийся стук копыт. «Живо на коней, – закричал он, – и скорее прочь отсюда!» Мы вскочили в седла и умчались во всю прыть. Я хотел было ехать домой, но Торнтон настоял, чтобы мы сперва заехали в старый амбар, находившийся в поле на расстоянии четверти мили. Так мы и сделали.
– Стойте, – сказал я. – А что сделал Торнтон с уцелевшей половинкой складного ножа? Выбросил он ее или взял с собой?
– Взял с собой, – ответил Доусон, – так как на рукоятке была серебряная пластинка с его именем. Он боялся бросить нож в водоем, как я ему советовал, чтобы его когда-нибудь при случае не нашли. Вблизи амбара имеется довольно большая роща молодых елочек; мы с Торнтоном вошли туда, он вырыл обломанным черенком ямку, положил в нее нож и забросал землей.
– Опишите это место подробнее, – сказал я. Доусон умолк и, видимо, стал припоминать. Я сидел как на иголках, ибо ясно понимал, как важен для меня его ответ. Прошло некоторое время, затем он покачал головой и сказал: – Место я описать не могу, роща очень густая; но я помню ее очень хорошо, и если бы я снова попал туда, то сразу же смог бы указать, где зарыт нож.
Я опять велел ему прервать рассказ, подумать и приложить все старания к тому, чтобы описать мне это место. Однако он сам был так неуверен в том, что говорил, и все это было так неопределенно, что я отчаялся; он же продолжал свой рассказ.
– Когда это было сделано, Торнтон велел мне постеречь лошадей и сказал, что пойдет один разведать, можно ли нам возвращаться. Он так и сделал и, вернувшись примерно через полчаса, сообщил, что осторожно пробрался к месту убийства и там, бросившись ничком на землю у края насыпи, заметил какого-то человека (при этом он выразил уверенность, что то был человек в плаще, которого мы обогнали, по его мнению – сэр Реджиналд Гленвил), садившегося на свою лошадь как раз там, где лежал убитый, и затем отъехавшего прочь, в то время как вслед за ним появился другой всадник – мистер Пелэм, тоже обнаруживший тело.
«Теперь можно не сомневаться, – добавил он, – что на нас станут всех собак вешать. Но если вы будете вести себя мужественно и твердо, мы избежим опасности: предоставьте мне переложить вину на сэра Реджиналда Гленвила».
Мы сели на коней и поехали домой. Мы вошли с черного хода и поднялись наверх. У Торнтона белье и руки были в крови. Белье он снял, запрятал поглубже и, как только представилась возможность, сжег. А руки вымыл и, чтобы цвет воды не вызвал подозрений, выпил ее. Затем мы присоединились к домашним, как будто ничего не случилось, и узнали, что приезжал мистер Пелэм. Но так как, к счастью нашему, в надворные помещения моей усадьбы недавно залезали воры, жена моя и слуги отказались впустить его в дом. Известие это повергло меня в крайнее смятение и страх. Однако, поскольку мистер Пелэм просил передать, чтобы мы поехали к заводи, Торнтон настоял, чтобы мы сделали это во избежание подозрений.
Затем Доусон рассказал, что по возвращении домой он все еще сильно волновался, и Торнтон заставил его немного прилечь. Когда вся наша компания из усадьбы лорда Честера подъехала к их дому, Торнтон зашел в комнату Доусона и дал ему выпить большой стакан бренди[809]. От этого он опьянел настолько, что уже не отдавал себе отчета, насколько опасно их положение. Впоследствии, когда обнаружен был портрет (о чем сообщил ему Торнтон, равно как и об угрожающем письме Гленвила покойному, найденном в бумажнике Тиррела), к Доусону вернулось мужество. А так как правосудие было направлено по ложному следу, он сумел выдержать допрос, не вызвав никаких подозрений, затем он вместе с Торнтоном отправился в город и все время посещал «клуб», в который еще раньше ввел его Джонсон. Сперва, находясь среди новых людей и еще не растратив полученных столь ужасным способом денег, он мог более или менее успешно заглушать голос совести. Но радость от успеха, достигнутого преступлением, есть нечто настолько противное природе человека, что длительной она быть не может. Несчастная жена Доусона, которую, несмотря на ее мотовство и свой беспорядочный образ жизни, он, по-видимому, действительно любил, заболела и умерла; на своем смертном ложе она призналась, что у нее возникли подозрения в виновности Доусона, и добавила, что подозрения эти измучили ее и довели до болезни. Это вновь пробудило в нем уснувшую было совесть. К тому же его доля денег Тиррела, большую часть которой у него угрозами вытянул Торнтон, иссякла. Он впал, по выражению Джоба, в беспросветное отчаяние, так часто и так настойчиво говорил Торнтону о своих угрызениях и так серьезно о мучительном, неукротимом желании успокоить свою душу, предавшись в руки правосудия, что негодяй, в конце концов не на шутку испугавшись, добился, чтобы Доусона поместили туда, где он теперь находился.
Тут-то и началась для него подлинная кара. Заточенный в одной из самых дальних комнат дома, он все время находился в одиночестве, которое нарушали только посещения его тюремщицы, – она заходила всегда ненадолго и торопилась поскорее уйти, – да еще (впрочем, это было хуже одиночества) вторжения Торнтона. По-видимому, отъявленный этот мерзавец обладал свойством, к чести природы человеческой довольно редким, а именно: любовью к злу не ради того, что оно может тебе доставить, но ради него самого. С жестокостью, вдвойне гнусной из-за ее бесполезности, он запрещал делать Доусону единственное послабление, о котором тот умолял, – оставлять ему на ночь свечу. При этом он не только издевался над Доусоном за трусость, но еще усиливал его страхи, угрожая в один прекрасный день покончить с ним раз и навсегда.
Но страхи эти вызывали в душе несчастного такое смятение, что даже тюрьма казалась ему раем по сравнению с теми адскими муками, которые он терпел.
Когда он кончил свою исповедь и я спросил его:
– Если вас удастся отсюда вызволить, повторите ли вы перед следователем то, в чем сейчас мне признались? – он при одной мысли об этом даже вздрогнул от радости. По правде сказать, помимо угрызений совести и того внутреннего властного голоса, который, как это известно из летописи человеческих злодеяний, словно побуждает убийцу принять последнее искупление своей вины, – помимо всего этого, в душе его таилось страстное, хоть и низменное стремление отомстить своему бесчеловечному сообщнику. И, может быть, помышляя о грозившей ему самому печальной участи, он обретал утешение в надежде, что Торнтону предстоит испытать хоть часть тех мучений, которым этот негодяй подвергнул его.
Я записал в книжечку признания Доусона и поспешил к Джонсону, который, поджидая за дверью, слышал (я, впрочем, в этом не сомневался) решительно все.
– Вы сами видите, – сказал я, – что, как ни удовлетворителен сам по себе этот рассказ, он не содержит никаких дополнительных объективных доказательств, могущих его подтвердить. Единственной фактической уликой, на которую он указывает, мог бы послужить сломанный нож с именем Торнтона. Но из слов Доусона вы, конечно, поняли, что в такой большой роще никто, кроме него самого, не разыщет места, где зарыт нож. Поэтому вы должны согласиться со мной, что из этого дома нам нельзя уйти без Доусона.
Джоб слегка изменился в лице.
– Я понимаю так же хорошо, как вы, что и для моей ежегодной ренты и для оправдания вашего друга необходимы личные показания Доусона. Но сейчас уже поздно. Парни там внизу, возможно, еще пьют, Бесс, может быть, еще не спит и бродит по дому. А даже если она спит, как нам пройти через ее комнату так, чтобы она не проснулась? Признаюсь вам, что не вижу никакой возможности устроить его побег нынче ночью без весьма вероятного риска, что нам троим перережут глотки. А потому предоставьте мне вызволить его, как только это окажется возможным, вероятно даже завтра, а пока давайте тихонечко уйдем, довольствуясь тем, чего мы пока достигли.