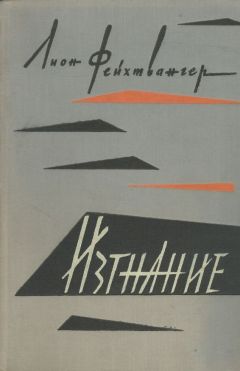Ответ Ганса, несмотря на свою примитивность, почти всем пришелся по душе, и Ганс отправился домой, окруженный всеобщей любовью. Напоследок даже Игнац волей-неволей снизошел почти до извинения.
На следующий день, когда Ганс прощался с Жерменой, она сказала:
— Говорят, вы, ты и мой Игнац, вчера здорово сцепились? — Ганс хотел объяснить ей, почему так получилось, но Жермена прервала его: — Политикой я не интересуюсь, я уже говорила тебе. Я наперед уверена, что ты был прав.
Ганс попросил ее, когда он уедет, заботиться об отце. Отец, мол, непременно зарастет грязью, если Жермена за ним не присмотрит. Ганс надеется, что она не оставит отца и после переезда на набережную Вольтера. В Москве ему, Гансу, будет спокойнее, если он будет знать, что хозяйство отца в руках Жермены.
Мадам Шэ не заблуждалась насчет себя. Она знала, что незаменимой работницей назвать ее нельзя, и ее обрадовало, что Ганс поручал ей заботу о мосье, о своем старике. Конечно, она с удовольствием останется у него, ответила она. Мосье, старик Ганса, может, слегка и сумасшедший, но он приятный хозяин, он не сует нос во все углы, проверяя, чисто ли тут и здесь, как это делала покойная мадам. Если Ганс договорится с ней, чтобы она и впредь работала у мосье Траутвейна, он этим оказывает услугу ей, а не она ему.
— Ты, пожалуй, слишком много требуешь от меня, Ане, — сказала она улыбаясь. — Подумай сам: я охочусь за тобой и никак не заполучу тебя, а ты просишь, чтобы я ухаживала за твоим стариком. Ну, не жестоко ли? Но я это сделаю.
Ганс подарил ей на прощание колечко. Она, растроганная, с улыбкой рассматривала подарок. И вдруг обхватила руками голову Ганса и крепко, но не так страстно, как в первый раз, поцеловала его в губы.
— Прощай, Анс, — сказала она, посмотрела на пего долгим взглядом, не то насмешливым, не то нежным, не то влюбленным — определить было трудно, и протянула ему руку. — C'est dommage, quand meme[38]. Это были ее последние слова, сказанные ему.
Позднее Ганс не раз будет вспоминать певучую, трудно определимую интонацию этого «C'est dommage, quand meme». Тут были и нежность, и презрение, и позднее сам он не раз будет думать с нежностью и презрением: «C'est dommage, quand meme». Но эти ласковые и насмешливые слова он отнесет не только к Жермене, а ко всему, что он оставил на Западе. Он отнесет их к Мюнхену и к Верхнебаварскому краю, опоясанному горами, к урокам греческого и латинского языка в гимназии, ко всему своему уютно идеалистическому воспитанию с его лжегуманизмом, к своей парусной лодке на Аммерском озере, к крепким, свирепым объяснениям с отцом и к многим удивительно запутанным западноевропейским представлениям о внутреннем и внешнем комфорте, о жизненных правилах, о свободе и о демократии. C'est dommage, quand meme.
Об индивидуализме, о свободе и демократии он говорил и с дядюшкой Меркле в тот вечер, когда пришел прощаться. На примере бессмысленного покушения, совершенного Клеменсом Пиркмайером на жалкого нацистского функционера и очень взволновавшего Ганса, Ганс лишний раз убедился, насколько опасен путь одиночки, особенно если он не обладает умом исключительной силы.
Гансу очень хотелось, чтобы дядюшка Меркле взял на себя заботу об одиноком Зеппе, но не знал, как старик воспримет его просьбу. Поэтому он очень осторожно изложил ее. И действительно, переплетчик прежде всего сказал:
— Ты же сам говоришь, что твой Зепп человек нетерпимый, что он мохом порос, что с ним нельзя вести разумный разговор. Чего же ты, собственно, хочешь? Вести мне с ним неразумные разговоры, что ли?
Но Ганс горячо заверил дядюшку Меркле, что в последнее время с Зеппом дело обстоит не так уж плохо. Ганс вдруг никак не мог нахвалиться отцом, не мог надивиться его внезапному превращению в разумно мыслящую личность.
— Это замечательно, что такой человек, как твой Зепп, прозрел наконец; ведь старому строю он обязан и душевным и материальным комфортом — по существу, это именно так. И если он увидел в новом строе общества хорошие стороны, а не только внешние неудобства, значит, у него есть мужество.
Правду говоря, дядюшке Меркле просьба Ганса пришлась по душе; не признаваясь себе в том, он радовался, что получит возможность иногда поговорить о далеком Гансе.
— Так, значит, я могу передать Зеппу, что вы были бы рады встретиться с ним? — тотчас же подхватил Ганс, довольный тем, что дядюшка Меркле похвалил отца.
И старик, вероятно оттого, что был слегка смущен, вдруг ответил по-французски:
— Хорошо, я зайду к нему.
И, торопясь оставить эту несколько сентиментальную тему, он вернулся к прежнему, словно ничем не прерванному разговору:
— Наши нынешние так называемые демократы постоянно смешивают средства и цель. Рассчитывать победить средствами формальной демократии значит опираться на демократию, которую только еще предстоит завоевать. Эти господа не желают взять в толк, что избирательное право и свобода печати без экономической демократии — пустой звук.
— Вы, значит, считаете, если я правильно вас понял, — медленно ответил Ганс, — что над западной частью мира еще долго будет висеть тьма, а значит, и разлуке нашей не скоро придет конец?
— Такие мысли, и тем более высказанные вслух, не к лицу молодому человеку, — наставительно сказал дядюшка Меркле. — Добрый петух поет уже в полночь. Он знает, солнце взойдет, пусть даже еще и не скоро.
Гансу очень хотелось бы до своего отъезда перевезти отца на набережную Вольтера. Но Зепп под всякими хитрыми предлогами уклонялся. Он поступился многими своими, казалось бы, неприкосновенными идеалами, например своим прекраснодушным гуманизмом и культом индивидуальности, и теперь с удвоенной силой цеплялся за вещи окружающего его внешнего мира. Он не был расточителен и неохотно платил за две квартиры — за каморки в «Аранхуэсе», и за дорогую квартиру на набережной Вольтера. Но с тех пор как переезд был решенным делом, ему все дороже становилась запущенная, грязная гостиница. Эта комната с прохудившимся полом, заставленная и заваленная до отказа, нравилась ему все больше и больше, она, говорил себе Зепп, связана с его симфонией, эти стены — свидетели тяжелейшей поры его жизни, жестокой поры ожидания, они видели смерть Анны и его душевные муки. «Аранхуэс» стал для него как бы второй родиной, новой кожей, сбросить которую было чертовски трудно. Даже сквалыга Мерсье казался ему теперь симпатичным, даже с ним будет трудно расстаться. Гансу пришлось удовольствоваться обещанием отца, что он переедет на набережную Вольтера, как только закончит симфонию. Большего добиться Ганс не мог.
Но «Зал ожидания» будет еще не так скоро завершен и не так скоро ему, Зеппу, придется покинуть эти комнаты, а после того как он проведет здесь, в «Аранхуэсе», последний вечер с Гансом, для него будет даже каким-то утешением мысль, что пока он еще остается здесь. Зепп обладал фантазией, а фантазия не ограничивает себя временем. Сидя в этих комнатах, — думал он, — он не раз вообразит, что вот сейчас или через полчаса откроется дверь и войдет Анна или Ганс. Конечно, трезвое сознание действительности быстро призовет его к порядку и подскажет, что все это — пустые мечты.
— Когда ты рассчитываешь закончить свой «Зал ожидания»? — спросил Ганс, вторгаясь в мечты отца.
Зепп вернул себя к действительности.
— Еще не скоро, лисенок, — улыбаясь, ответил он. — Тебе не так легко удастся вытащить меня отсюда. Такой «Зал ожидания» — сложная штука. Но слово есть слово, и ты можешь быть спокоен: как только буду готов, я протелеграфирую тебе и послушно перееду на набережную Вольтера.
— А не сыграешь ли ты мне что-нибудь из «Зала ожидания»? — попросил Ганс.
Такая просьба была для Зеппа большим искушением, но он сказал себе, что играть Гансу нет смысла. Как он, Зепп, никогда не почувствует себя дома в новом мире Ганса, так же и мальчуган никогда не поймет его музыки. Странное дело: он и мальчуган говорят на одном и том же немецком языке, на одном и том же баварском диалекте, у них одна лексика, одни интонации. Но, к сожалению, мальчуган гораздо легче находит общий язык с теми, кто ни слова не знает по-немецки, а он, Зепп, умеет говорить своей музыкой с многими и многими, но только не со своим мальчуганом. Нет, он не испортит последний вечер с Гансом, пытаясь говорить на языке, чуждом ему.
Лучше он чем-нибудь порадует Ганса, покажет, что отлично знает, скольким обязан ему.
— Скажи, Ганс, ты точно представляешь себе, что такое аббат? — спросил Зепп.
— Нет, точно себе не представляю, — ответил Ганс.
— Я тоже, — улыбнувшись, сказал Зепп. — Но я думаю, что аббат — это тот, кто служит церкви по влечению сердца и все же не обладает достаточной смелостью, чтобы связать себя с ней обетом. Такой аббат очень симпатизирует церкви, но не хочет, а может быть, и не может сделать последний шаг. Видишь ли, таково примерно и мое отношение к вам, к марксизму. Если ты меня сегодня спросишь, как я отношусь к вам, я скажу: я аббат марксизма. Или на вашем трезвом языке, лишенном сочности и красок, я симпатизирующий.