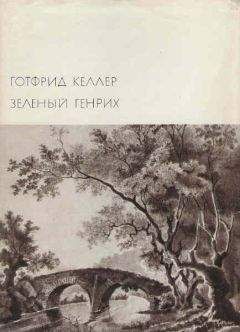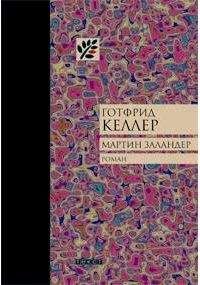— Это моя поклажа, друг мой! — произнес вновь прибывший. — Поддержите-ка ее немного, а я достану рекомендательные письма к господину графу, которого прошу вызвать!
Слуга поддержал мешок. Тогда путешественник вынул из набитого бумажника несколько писем и передал их слуге, после чего тот направился в дом, и путнику снова пришлось самому держать мешок. Спустя некоторое время появился граф, неся в руке одно из писем и ища глазами прибывшего. Тот протянул ему свободную руку, придерживая другой высокий мешок, и воскликнул:
— Приветствую вас, благородный муж и товарищ! Разве жизнь не великое счастье, как говорит Гуттен?[216]
— Я имею честь видеть господина Петера Гильгуса, которого мне в этих письмах рекомендуют мои друзья? — спросил его граф Дитрих.
— Да, это я! Разве жизнь не великое счастье?
— Конечно! Но вы располагайтесь поудобнее! Не хотите ли отдать свою поклажу и войти в дом?
— Я не могу этого сделать, пока не скажу вам несколько слов!
Граф приблизился к приезжему, который что-то тихо сообщил ему, после чего вознице было сказано, что все его требования будут удовлетворены, и его позвали накормить лошадь, а затем подкрепиться самому на кухне замка.
После этого двое слуг внесли мешок в дом, и граф пригласил незнакомца к себе, где продолжал начатую с ним беседу.
Господин Петер Гильгус был сбежавший из Центральной Германии школьный учитель и апостол атеизма, который отправился посмотреть белый свет и насладиться им, после того как из этого света был изгнан господь бог. Такое событие казалось ему невероятной удачей, и, куда бы ни попадал, он восклицал неудержимо: «Жизнь — это великое счастье!» Казалось, что вселенная и в самом деле освободилась от своего опаснейшего врага и угнетателя, едва лишь он, Гильгус, прочел произведения философа. Поэтому он вел себя так, будто каждый день был воскресеньем и на вертеле жарилось мясо, или как ведет себя население маленького герцогства, чей тиран бежал, или как мыши, когда кошка уходит из дому.
Вероятно, будучи школьным учителем, он не раз подвергался гонениям со стороны духовенства; так или иначе, изгнанию бога он радовался более, чем того требовала справедливость. Все снова и снова дивился он тому, как это великолепно — освободиться от гибельного понятия божества и иметь возможность раз навсегда отбросить какую бы то ни было зависимость. Снова и снова потрясал он кулаком, грозя всему бесконечному прошлому, заполненному антропоморфическими богами[217]; все снова поднимался он на каждый холмик, простирал руки горе и славил красоту зеленого мира, ликовал при виде безоблачной синевы неба, освобожденного от бога, и, лежа на животе, пил из ручьев и источников, вода которых никогда, казалось, не была столь чистой и свежей, как теперь. Но все это не мешало ему, едва только наступали длительные холода или затяжные дожди, приходить в ярость и выражать свое личное недовольство при помощи древних проклятий, направленных против личности всевышнего, сотворившего эти отвратительные явления.
Пустившись в странствие, он прежде всего посетил главу школы, философа, в течение недели поклонялся ему и в конце концов взял у него в долг для своего дальнейшего путешествия всю небольшую наличность, которая нашлась в доме непритязательного мудреца, жившего в добровольной бедности. Философ дал ему также несколько писем к более состоятельным поклонникам, те, в свою очередь, послали его к своим друзьям, и так он, вот уже в течение года, путешествовал из города в город, из поместья в поместье, жил прекрасно и в полном довольстве и славил наступившую новую эру. Теперь он наконец добрался и до графа Дитриха, которому уже доводилось слышать о нем. Когда граф вышел к столу с новым гостем, он уже изрядно устал от громких разговоров и восклицаний неутомимого собеседника; сам же пришелец, из толстых губ которого лился нескончаемый поток слов, зачерпнул ложкой наваристого супа и воскликнул: «Жизнь — это великое счастье!»
Сразу же заподозрив во мне любимчика хозяев и нахлебника, он после обеда подошел ко мне и упросил проводить его в отведенную ему комнату; задавая мне тысячу вопросов, он начал устраиваться и распаковывать свой мешок, служивший ему дорожным чемоданом. Наряду с изрядным количеством различных предметов мужского туалета, которые, кстати, не подходили один к другому, на свет появились диковинные вещи, и каждую из них он пышно восхвалял. Вынув переплетенные в красную кожу труды учителя, каждый том которых был завернут в особый платочек, он торжественно поставил их на письменный стол. Потом он вытащил большой, в несколько локтей кусок небеленого тика, из которого он собирался заказать себе летом немецкий гимнастический костюм. После этого появились другие книги; затем выкатилось несколько десятков борсдорфских яблок, подаренных ему, по его словам, одной красивой помещицей, затем — кусок солонины, завернутый в бумагу, после этого — скатанное стеганое одеяло синего цвета, а в него была заложена шерсть на новые чулки. При виде всех этих вещей нельзя было не признать, что он довольно сносно обходился без божьей помощи и сумел подумать обо всем, что ему может понадобиться в будущем. Вынув из недр мешка еще несколько вещей, в том числе и небольшие шварцвальдские часы, он залез с головой в мешок и вытащил с самого дна свернутый шлафрок в ярко-красных цветах. Развернув его, он достал большую коробку, где лежала модель человеческого глаза величиной с детскую голову.
Гильгус открыл коробку и осторожно вынул из нее глаз, желая посмотреть, не повредился ли он в дороге. Модель была из воска и стекла, и ее можно было разнимать на части, чтобы во время школьных занятий объяснять ученикам строение человеческого глаза. Отправляясь в дорогу, беглый учитель прихватил с собою этот глаз, принадлежавший к школьной коллекции по естественной истории, и поэтому, как только становилось известным его местопребывание, за ним тотчас летели официальные бумаги, преследовавшие его. Но Гильгус все же не расставался с глазом.
Бережно сдунув с него пыль, он торжественно водрузил его на письменный стол и воскликнул:
— Сие есть истинное око господне!
Разумеется, «око господне» было весьма примитивного устройства, и познания Гильгуса не выходили за рамки этой модели, но все же она должна была служить ему для того, чтобы авторитетом естествознания подкреплять радость по случаю гибели господа бога. Кроме того, он возил этот глаз с собой как бы в качестве символа всепобеждающей науки, которая, подходя к новому ряду открытий, неизменно бросает по адресу предвечного: «Эй ты, мы теперь сами знаем, как это делается».
К тому же глаз использовался в качестве секретного сейфа и сокровищницы. Когда Гильгус вынул глазное яблоко, я увидел полое пространство, содержимое которого порядком перетряслось в дороге. Из хлопьев ваты он достал золотую булавку для галстука, серебряную цепочку для часов, несколько колец и с гордостью показал мне эти драгоценности. К пачкам счетов, рецепту какого-то пунша и связке любовных писем, полученных им от служанок своих гостеприимных друзей, он отнесся довольно небрежно, зато с серьезным видом развернул лотерейный билет, как будто это была государственная облигация; правда, на нем было напечатано много цифр и среди них даже шестизначные; небольшое количество наличных денег, завернутых в бумагу, он назвал своим резервным фондом и сказал, что ни при каких обстоятельствах не дотронется до них, а потому они и хранятся здесь. Коллекцию завершал высохший букетик цветов, который, казалось, примирял его владельца с людьми, напоминая о простых человеческих чувствах.
Таково было содержание глаза; вынув его, он все уложил в пустую коробку, которую и запер в ящик стола; самое анатомическую модель он предполагал демонстрировать во время предстоящих поучительных бесед.
В первый же вечер, когда к нашему обществу присоединился капеллан, Гильгус избрал его мишенью своего апостольского рвения, и тут разгорелся шумный спор, но священник вскоре распознал в пришельце пародию на идейного противника, и тогда, лукаво прищурив глаза, он изменил тактику и начал льстить расшумевшемуся Петеру Гильгусу, который с невероятной смелостью бросался всякими кощунственными речами. Капеллан говорил, что он счастлив приветствовать гостя и познать столь ярко выраженное и в своем роде законченное явление; абсолютные противоположности всегда сильнее притягивают друг друга, чем неопределенная половинчатость, и в конце концов они соединяются где-то в высших сферах. Страстный приверженец бога, сказал он, и страстный отрицатель бога, собственно говоря, впряжены в одно и то же ярмо, от которого первый так же не может освободиться, как и второй; поэтому он в качестве верного спутника предлагает ему свою дружбу. Такое рьяное и упорное отрицание бога является, мол, лишь иной формой скрытой богобоязни; были же в первые века такие святые, которые внешне выставляли напоказ большую греховность, чтобы, будучи отвергнуты миром, тем свободнее отдаваться восхвалению бога.[218] Гильгус, сбитый с толку, не понимал, чего от него хотят, и пытался помочь себе безудержной болтовней; но веселый капеллан обволакивал противника сотней самых льстивых шуток, успокаивал его словами о том, что господь бог уже давно приметил его и что все еще наладится; в конце концов Гильгус размяк и принял приглашение капеллана на следующий день позавтракать с ним в церковном доме. Там они возобновили словопрения, затем выпили вместе и, заключив дружбу, отправились на прогулку по полям и ближайшим трактирам. Капеллан придумывал все новые шутки над своим новоиспеченным другом, ибо он неизменно сохранял ясность мысли и не забывал о своих злокозненных намерениях, в то время как Гильгус, стоило ему хоть немного выпить, терял способность рассуждать и, проливая жалкие слезы, начинал умиляться величию своей судьбы и грандиозности эпохи, когда «жизнь является великим счастьем». Если капеллану удавалось днем или вечером привести Гильгуса в подобном состоянии в замок, то ликованию его не было предела. Граф улыбался то весело, то хмуро. Доротея же непрерывно хохотала и с любопытством прислушивалась к разговору, — ей никогда не приходилось видеть ничего подобного; Гильгус особенно смешил ее, когда падал перед ней на колени и, плача, целовал край ее одежды; дело в том, что он сразу же бросил дочку садовника, за которой начал было волочиться, едва только узнал, что Дортхен не графиня, да и к тому же еще энергичная и свободомыслящая женщина; очевидно, он считал ее предназначенной разделить с ним его радость по поводу того, что «жизнь есть великое счастье».