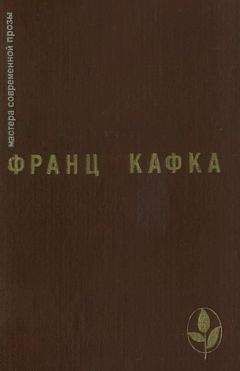Поразительно это систематическое саморазрушение в течение многих лет, оно было подобно медленно назревающему прорыву плотины — действие, полное умысла. Дух, который осуществил это, должен теперь праздновать победу; почему он не дает мне участвовать в празднике? Но может быть, он еще не довел до конца свой умысел и потому не может ни о чем другом думать.
18 октября. Вечное детство. Снова зов жизни.
Легко вообразить, что каждого окружает уготованное ему великолепие жизни во всей его полноте, но оно скрыто завесой, глубоко спрятано, невидимо, недоступно. Однако оно не злое, не враждебное, не глухое. Позови его заветным словом, окликни истинным именем, и оно придет к тебе. Вот тайна волшебства — оно не творит, а взывает.
19 октября. Сущность дороги через пустыню. Человек, сам себе народный предводитель, идет этой дорогой, последними остатками (большего не дано) сознания постигая происходящее. Всю жизнь ему чудится близость Ханаана; мысль о том, что землю эту он увидит лишь перед самой смертью, для него невероятна. Эта последняя надежда может иметь один только смысл: показать, сколь несовершенным мгновением является человеческая жизнь, — несовершенным потому, что, длись она и бесконечно, она все равно всего лишь мгновение. Моисей не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком коротка, а потому, что она человеческая жизнь. Конец Моисеева пятикнижия сходен с заключительной сценой «Education sentimentale»[117].
Тому, кто при жизни не в силах справиться с жизнью, одна рука нужна, чтобы отбиться от отчаяния, порожденного собственной судьбой, — что удается ему плохо, — другой же рукой он может записывать то, что видит под руинами, ибо видит он иначе и больше, чем окружающие: он ведь мертвый при жизни и все же живой после катастрофы. Если только для борьбы с отчаянием ему нужны не обе руки и не больше, чем он имеет.
20 октября. После обеда Лангер, потом Макс читали вслух «Франци».
Сновидение, ненадолго во время судорожного, недолгого сна судорожно захватившее меня, наполнив безмерным счастьем. Сновидение широко разветвленное, с тысячью совершенно понятных связей, — осталось лишь слабое воспоминание о чувстве счастья.
Мой брат совершил преступление, мне кажется — убийство, я и другие замешаны в этом преступлении, наказание, развязка, избавление приближаются издалека, приближение мощно и неудержимо нарастает, это видно по многим признакам, моя сестра, кажется, все время возвещает эти признаки, которые я все время приветствую безумными выкриками, безумие возрастает вместе с приближением. Мне казалось, я никогда не смогу забыть своих отдельных выкриков, коротких фраз благодаря их ясности, теперь же ничего не могу точно вспомнить. Это могли быть только выкрики, ибо говорить мне было очень трудно, для того чтобы произнести слово, я должен был надуть щеки и одновременно скривить рот, как при зубной боли. Счастье заключалось в том, что наказание пришло и я свободно, убежденно и радостно приветствовал его, — картина эта умилила богов, и умиление богов тоже тронуло меня почти до слез.
21 октября. Он не мог позволить себе войти в дом, ибо слышал глас, повелевший ему: «Жди, пока я поведу тебя!» И так лежал он во прахе перед домом, хотя давно уже, наверное, не оставалось никакой надежды…
Всё — фантазия: семья, служба, друзья, улица; всё — фантазия, более далекая или более близкая, и жена — фантазия; ближайшая же правда только в том, что ты бьешься головой о стену камеры, в которой нет ни окон, ни дверей.
22 октября. Знаток, специалист, человек, знающий свое дело, — правда, знания эти никому нельзя передать, но, к счастью, они, кажется, никому и не нужны.
23 октября. После обеда. Фильм о Палестине.
25 октября. Вчера Эренштайн[118].
Родители играли в карты; я сидел один, совершенно чужой; отец сказал, чтобы я играл с ними или хотя бы смотрел, как играют; я нашел какую-то отговорку. Что означал этот многократно повторявшийся с детства отказ? Приглашения открывали мне доступ в общество, в известной мере к общественной жизни, с занятием, которого от меня как от участника требовали, я справился бы если не хорошо, то сносно, игра, наверное, даже и не слишком наводила бы на меня скуку — и все-таки я отказывался. Если судить по этому, я не прав, жалуясь, что жизненный поток никогда не захватывал меня, никогда я не мог оторваться от Праги, никогда меня не заставляли заниматься спортом или каким-нибудь ремеслом и тому подобное, — я бы, наверное, всегда отклонял предложение, так же как приглашение к игре. Лишь бессмысленное было доступно — изучение права, канцелярия, потом бессмысленные добавления, например работа в саду, столярничанье и тому подобное; эти добавления подобны действиям человека, который выкидывает за дверь несчастного нищего и потом сам с собой играет в благодетеля, передавая милостыню из своей правой руки в свою же левую руку.
Но я всегда от всего отказывался, возможно, из-за общей слабости, в особенности же из-за слабости воли, только понял это я поздно. Раньше я считал этот отказ чаще всего хорошим признаком (обольщенный большими надеждами, которые я возлагал на себя), сегодня же от этой приятной точки зрения почти ничего не осталось.
29 октября. В один из ближайших вечеров я все же участвовал в игре, записывая для матери ее очки. Но сближения не получилось, а если и был намек на него, то он развеялся под давлением усталости, скуки, грусти по поводу потерянного времени. И так было бы всегда. Пограничную зону между одиночеством и общением я пересекал крайне редко, в ней я обосновался даже более прочно, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона.
30 октября. После обеда в театре. Палленберг[119].
Мои внутренние возможности для (я не хочу сказать — изображения или написания «Скупого», а именно для) самого скупого. Нужно только быстрое решительное движение — и весь оркестр зачарованно уставится туда, где над пультом капельмейстера должна подняться дирижерская палочка.
Чувство полнейшей беспомощности.
Что связывает тебя с этими прочно осевшими, говорливыми, остроглазыми существами теснее, чем с какой-нибудь вещью, скажем с ручкой в твоей руке? Уж не то ли, что ты их породы? Но ты не их породы, потому-то и задался таким вопросом.
Эта четкая отграниченность человеческого тела ужасна.
Странная, непостижимая сила предотвращает гибель, молча направляет. Сам собой напрашивается абсурдный вывод: «Что касается меня, я давно бы погиб». Что касается меня.
1 ноября. «Песнь козла» Верфеля.
Свободно повелевать миром, не повинуясь его законам. Предписывать закон. Счастье быть послушным этому закону.
Однако невозможно предписать миру такой закон, при котором все оставалось бы по-прежнему и лишь новый законодатель был бы свободен. Это был бы не закон, а произвол, смута, самоосуждение.
2 ноября. Шаткая надежда, шаткая вера.
Бесконечное хмурое воскресенье, поедающее целые годы, годам равное послеобеденное время. Попеременно в отчаянии бродил по пустынным улицам и успокоенный лежал на диване. Порой вызывали удивление почти беспрерывно тянущиеся бесцветные, бессмысленные облака. «Тебя ждет великий понедельник!» Хорошо сказано, но воскресенье никогда не кончится.
3 ноября. Звонок по телефону.
7 ноября. Неизбежная необходимость в самонаблюдении: если за мною кто-то наблюдает, я, естественно, тоже должен наблюдать за собой, если же никто другой не наблюдает за мною, тем внимательнее я должен наблюдать за собой сам.
Можно позавидовать легкости, с какой от меня может избавиться всякий, кто поссорится со мной или кому я стану безразличен или надоем (при условии, что дело не идет о жизни; когда однажды казалось, что у Ф. дело идет о жизни, избавиться от меня было нелегко, — правда, я был молод и силен, и желания мои тоже были сильными).
1 декабря. После четырех посещений М. уедет, завтра уезжает. Четыре спокойных дня посреди дней мучительных. Как долог путь от мысли, что я не грущу по поводу ее отъезда, не грущу по-настоящему, до понимания, что ее отъезд все-таки вызывает во мне бесконечную грусть. Разумеется, грусть не самое страшное.
2 декабря. Писал письма в комнате родителей. Формы гибели невообразимы. Недавно представил себе, что малым ребенком я был побежден отцом и теперь из честолюбия не могу покинуть поле боя — все последующие годы напролет, хотя меня побеждают снова и снова. Все время М., или не M., a принцип, свет во мраке.