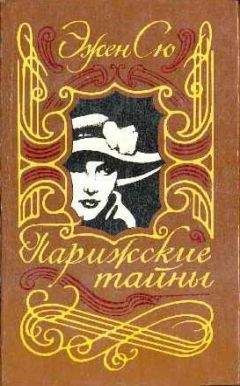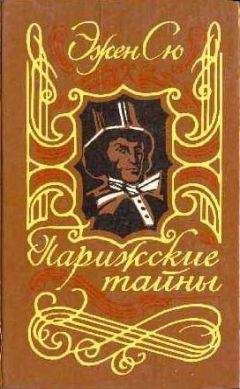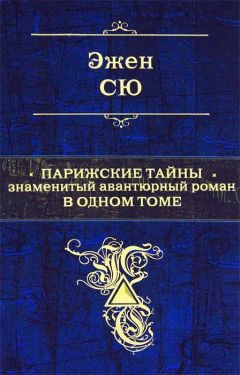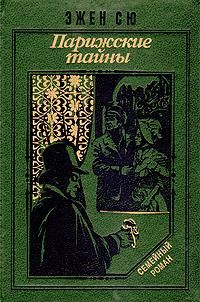Прощайте, шлю вам печальный поклон, благородный друг, добрый ангел в эти тяжелые дни. Скорее возвращайтесь, ведь разлука для вас столь же тягостна, как и для меня…
Вам — и жизнь моя и любовь,
душой и сердцем
ваш Р.
Посылаю это письмо с курьером, и, если не помешают непредвиденные обстоятельства, завтра напишу другое после печальной церемонии. Лучшие пожелания вашему отцу, надеюсь, что он скоро совсем поправится. Забыл сообщить вам новость о бедном Генрихе. Его состояние улучшается и уже не вызывает большой тревоги. Его благородный отец, сам больной, нашел в себе силы, чтобы ухаживать за ним, бодрствовать у его постели — чудо отцовской любви, которое нас не удивляет.
Итак, до завтра… Для меня наступит роковой, зловещий день.
Р.»
«Аббатство св. Германгильды, четыре часа утра.
Не беспокойтесь, Клеманс, хотя время, когда я пишу это письмо, и место, где нахожусь, могут вас напугать.
Слава богу, опасность миновала, хотя приступ был угрожающий…
Вчера, после того как я написал вам письмо, движимый каким-то мрачным чувством, вспоминая бледное, измученное лицо моей дочери, слабость, которую она ощущала в последнее время, подумав, наконец, о том, что она должна стоять на молитве почти всю ночь, предшествующую постригу, в холодной большой церкви, я отправил Мэрфа и Давида в аббатство принцессы Юлианы, с тем чтобы она разрешила им ночевать в находящемся за оградой обители особняке, который обычно занимал Генрих. Так что моя дочь смогла бы получить немедленную помощь, и я знал бы об этом, если бы у нее не хватило сил выдержать эту тяжелую… я не хотел бы сказать, жестокую повинность молиться в январе всю ночь на лютой стуже. Я также написал Марии, чтобы она, строго исполняя религиозные обязанности, подумала о своем здоровье, и совершила ночную молитву у себя в келье, а не в церкви. Вот что она мне ответила:
«Дорогой отец, от всего сердца благодарю вас за новое доказательство вашей нежной преданности. Не беспокойтесь; я убеждена, что в силах исполнить свой долг. Ваша дочь, милый отец, не проявит ни страха, ни слабости. Таков устав, и я должна ему подчиниться. И если за этим последует физическое страдание, я охотно принесу его в дар богу. Надеюсь, вы одобрите мое поведение, вы, который всегда были так строги к себе и верны долгу. Прощайте, дорогой отец, не скажу, что я буду молиться за вас. Обращаясь к богу, я всегда обращаюсь и к вам, ибо вы олицетворяете для меня божество, к которому я взываю. Вы были для меня на земле тем же, кем бог, если я заслужу это, станет для меня в небесах.
Сегодня вечером удостойте мысленно благословить вашу дочь, дорогой отец. Завтра она станет невестой Христа. Она с благоговением целует вашу руку.
Сестра Амелия».
Обливаясь слезами, читал я это письмо, однако оно меня немного успокоило. Я тоже должен был бодрствовать в эту мрачную ночь.
Когда она наступила, я заперся в павильоне, который приказал построить подле памятника моему отцу, сооруженного в искупление событий той роковой ночи…
Около часа я услышал голос Мэрфа; я задрожал от ужаса. Он поспешно вернулся из монастыря.
Что сказать вам, мой друг? Как я и предвидел, несчастное дитя, несмотря на свое мужество и силу воли, не выдержало полностью этот варварский ритуал, от которого принцесса Юлиана не смогла освободить ее, так как существует категорическое предписание его исполнять.
В восемь часов вечера Лилия-Мария преклонила колени на каменном полу церкви. До полуночи она молилась. К этому времени, изнемогая от слабости, ужасного холода и волнения, тихо плача, она потеряла сознание. Две монахини, разделявшие ее бдение по распоряжению принцессы Юлианы, подняли и отнесли ее в келью.
К ней тотчас вызвали Давида. Мэрф в карете прибыл за мной. Я помчался в монастырь, где меня приняла принцесса Юлиана. Она сообщила, что Давид боится, чтобы мое появление не вызвало слишком сильного волнения у дочери, что она очнулась от своего обморока, который не представляет собой ничего угрожающего и был вызван только ее слабостью.
Вначале у меня возникла страшная мысль. Я подумал, что от меня хотят скрыть ужасное несчастье, или, по крайней мере, подготовить к нему, но настоятельница сказала мне:
«Я подтверждаю, монсеньор, принцесса Амелия вне опасности; легкое сердечное лекарство, которое дал ей доктор Давид, — подкрепило ее силы».
Я не мог сомневаться в том, что утверждала аббатиса; я поверил ей и ожидал известий с мучительным нетерпением.
После нескольких минут тревоги и тоски пришел Давид. По милости бога ей стало лучше, и она решила продолжать молитву в церкви, согласившись только подложить подушку под колени. И когда я возмутился против того, что настоятельница и он уступили желанию дочери, и заявил, что я официально воспротивлюсь этому, то доктор ответил, что было бы опасно противоречить воле моей дочери в тот момент, когда нервы её предельно напряжены, и к тому же условились с принцессой Юлианой, что дочь покинет церковь в часы всенощной, чтобы отдохнуть перед церемонией и подготовиться к ней.
— Значит, она сейчас в церкви? — спросил я.
— Да, монсеньор, но через полчаса она уйдет оттуда.
Тотчас я просил сопроводить меня на хоры северной стороны, откуда открывался вид на величественный неф. Там, во мраке просторной церкви, освещенной мерцающим светом алтаря, она стояла на коленях подле решетки и, сложив руки, горячо молилась.
Я тоже стал на колени, созерцая свою дочь.
Пробило три часа; две монахини, сидевшие на скамьях и смотревшие на Марию, подошли к ней и тихо что-то сказали. Вскоре она перекрестилась, поднялась и твердым шагом пересекла неф церкви; однако, дорогой друг, когда она проходила мимо светильника, ее лицо показалось мне столь же бледным, как и покрывавшее ее длинное покрывало.
Я сразу же сошел с хоров и сначала хотел подойти к ней, но побоялся причинить ей новые волнения, нарушить ее покой и лишить отдыха. Тогда я отправил Давида узнать, как она себя чувствует; вернувшись, он сообщил, что ей лучше и она хочет немного отдохнуть.
Я остаюсь в аббатстве, чтобы присутствовать на церемонии посвящения в монахини, которая состоится сегодня утром.
Полагаю, друг мой, что не стоит отправлять вам незаконченное письмо; допишу его завтра и расскажу о событиях печального дня.
До скорого свидания, я подавлен горем, пожалейте меня!»
13 января
Глава последняя
РОДОЛЬФ К КЛЕМАНС
«13 января… Дважды роковая годовщина!!!
Друг мой… мы потеряли ее навсегда!!!
Все кончено, все!
Слушайте этот рассказ.
Правда, что можно испытывать болезненное сладострастие, излагая глубочайшую-скорбь.
Вчера я жаловался на судьбу за то, что вы далеко от меня… Сейчас, Клеманс, я доволен, что вас здесь нет: вы глубоко страдали бы…
Утром я слегка дремал, как вдруг меня разбудил звон колоколов… я задрожал… мне представилось что-то мрачное… звон был похож на похоронный.
В самом деле… моя дочь умерла для нас… умерла, понимаете ли вы это? Отныне, Клеманс… вы должны носить траур в своем сердце, которое было для нее материнским.
Будет ли наша дочь погребена под мрамором могилы или под сводами монастыря… для нас… это безразлично.
Отныне, Клеманс, надо считать ее умершей… К тому же… она столь хрупкое существо… ее здоровье, надорванное такими горестями и потрясениями, такое слабое… Почему же не наступила настоящая смерть? Или злой рок еще не утомился?..
К тому же… из вчерашнего моего письма вы должны были понять, что другая, настоящая смерть была бы для нее легче…
Умерла… Не находите ли вы, что это слово звучит странно, когда оно относится к обожаемой дочери… прелестной девушке ангельской доброты. Ей едва минуло восемнадцать лет… прежде чем она погибла для света… По сути дела, для нас и для нее зачем губить душу под мрачными сводами монастыря? В самом деле, зачем ей жить, если для нас она потеряна навечно? Она, должно быть, страстно любила жизнь… которою злой рок наделил ее!..
В полдень в торжественной обстановке состоялось ее пострижение в монахини.
Я присутствовал при этом, скрытый за портьерами нашей ложи.
Я испытываю мучительное волнение, более тяжкое, нежели когда мы узнали о ее желании стать послушницей… Странное явление! Ее обожают, считают, что она должна вести жизнь затворницы в силу неодолимого призвания, что уход в монастырь для нее счастливое событие, а в толпе, наоборот, царила удручающая грусть.
В глубине церкви, среди публики… я увидел двух унтер-офицеров гвардейского полка, двух старых суровых солдат; поникнув головой, они плакали…
Казалось, что возникла обстановка скорбного предчувствия, если это так, то самое страшное еще впереди.