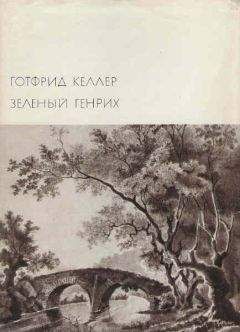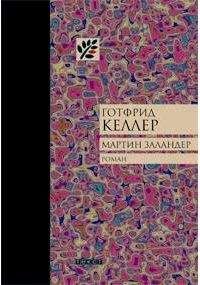Когда они собрали свою жатву, Розхен пошла дальше, отыскивая новые кусты, и постепенно скрылась в роще. Доротея подошла, опустилась на дерево рядом со мной и поднесла к моему лицу цветущий букет.
— Разве здесь не красиво? — сказала она. — Неужели вы не рады, что мы вас вытащили из вашего темного угла?
— Я собирался писать матери, — ответил я.
— Разве вы до сих пор не послали ей новогоднего поздравления?
— Я не писал ей все время, что живу здесь, она даже не знает, где я!
— Не знает? Ну можно ли так поступать?
Я посмотрел в сторону и оторвал пальцами кустик мха, выросший на серебристо-серой коре дерева. Потом я ответил, что не предвидел столь длительной задержки, а затем решил, что сделаю матери приятный сюрприз, если явлюсь без предупреждения.
— Хороши же вы! — воскликнула она. — Вы завтра же должны ей написать, я не потерплю этого дольше! У кого есть такая матушка, должен благодарить творца! А знаете, ваша книга теперь похожа на гербарий. Все странички, где мне что-нибудь понравилось или где мне захотелось прочесть вам проповедь, я заложила зеленым листком или травинкой. Она заперта в моем столе. Когда я читала о вашей матушке, я не раз думала: как бы хотелось мне забраться под крылышко такой матери, — ведь я никогда материнской ласки не знала! Да, но завтра письмо должно быть написано! Вы напишете его у меня в комнате, и я не отойду от вас, пока оно не будет готово и запечатано. А если вы станете хорошо себя вести, я сама тоже припишу ей поклон!
— Пожалуй, это будет неудобно, — сказал я.
— Почему же? О, замерзший Иисусе! Почему же неудобно? Разве я не могу послать поклон вашей матушке? Или вы не хотите ей писать?
Вместо ответа я продолжал прилежно выцарапывать кусочки мха, потому что железный образ Дортхен ворочался в моем сердце, пока я сидел рядом с его оригиналом, чего прежде никогда не бывало, и мне казалось, что своими тяжелыми руками он упирается в стены темного жилища.
Между тем она взяла меня за руку и повторила тихим голосом:
— Почему же вы не хотите? Или я должна написать за вас, как бы по вашему поручению? Нет, так не годится! Знаете что, я вам продиктую то, что, по-моему, доставит удовольствие вашей матушке, а вам придется только записывать! Ну?
Прежде чем я успел ответить, вернулась Розхен с полным фартуком подснежников, и уже настала пора возвращаться в замок. Дортхен замолкла. На обратном пути она не взяла меня под руку, но не отходила от меня ни на шаг. Вдруг она сказала:
— Розхен, дай мне твою кофточку, если тебе она не нужна! Мне что-то холодно.
Доротея была выше ростом, чем подруга, и потому кофточка, которую ей с готовностью протянула Розхен, оказалась ей мала и узка.
— Не угодно ли вам, сударыня, воспользоваться моей курткой? — неловко пошутил я, но она ответила:
— Нет, я не хочу быть в вашей шкуре, вы рыба!
Вернувшись в замок, она должна была распорядиться, чтобы гостям перед отъездом сервировали чай, а затем присутствовать при прощании с ними. Мне пришлось, подчинившись требованиям графа и капеллана, остаться с ними за стаканом пунша; Доротея пришла пожелать нам доброй ночи. Обвив рукой плечи графа, она, шутливо всхлипывая, проговорила:
— Ужасная жизнь у приемной дочери! Она не может даже поцеловать отца, прощаясь с ним перед сном!
— Что это тебе взбрело на ум, дурочка? — сказал граф, смеясь. — Это, конечно, не годится и даже было бы против приличий.
Железный образ снова повернулся в моем сердце и всю ночь мучительно меня давил. К тому же он стиснул мне горло, и я не мог дышать, пока не разразился потоком слез и горестных вздохов, — впервые в моей жизни я так страдал от любви. Недовольство этой слабостью еще усилило мое горе, кроме того, я сделал крайне неприятное открытие: оказывается, настоящая страсть (а я считал мое чувство таковым) лишает человека всякой свободы воли, всякой возможности разумно распоряжаться самим собою.
Когда настало утро, от «весны» не осталось и следа; шел мокрый снег пополам с дождем. Когда я появился в замке, Дортхен уже не вспоминала о письме, да сам я тем более не был в состоянии приняться за него. Еще одним новым открытием было мое отвращение к еде; никогда бы я не поверил, что подобные причины могут вызывать такие последствия. Мне стоило больших усилий скрыть отсутствие аппетита и связанную с этим унылость, а ведь я уже давно был не мальчик. Я очень сожалел, что столь выгодная страсть, позволяющая экономить на хлебе насущном, не овладела мной в те дни, когда я голодал, — она сослужила бы мне отличную службу. То, что я не мог поделиться этими реально-экономическими наблюдениями с Дортхен и развеселить ее, глубоко меня огорчало.
Дортхен же, напротив, казалась очень оживленной; с каждым днем она была все веселее и, видимо, не очень-то тревожилась обо мне. Она пускала волчком монеты по столу, приводила детей и возилась с ними, украшая их головки бумажными колпаками, кидала собакам во дворе поноску, и все это казалось мне необыкновенным, удивительным, полным неизъяснимой прелести, все очаровывало меня. Чем больше она бесилась и дурачилась, тем больше восхищался я ее природной прелестью и живостью духа; я видел, что в этой милой кудрявой головке сидит тысяча бесенят. Если женщина сначала покорила нас открытой и ясной сердечной добротой, тем, что принято называть женским очарованием, если мы потом в наивном изумлении открыли, что возлюбленная наша не только красива и добра, но еще и умна, то, внезапно обнаружив в ней озорную, детскую жестокость, мы окончательно лишаемся покоя и разума; вот и мной теперь овладел внезапный страх, что я уже никогда не обрету покоя, — ведь я никогда не смогу назвать моей эту веселую, привлекательную девушку. Ибо, если любовь не только прекрасное и глубокое, но и по-настоящему веселое чувство, она каждый миг нашей короткой жизни как бы обновляется, она удваивает ценность ЖИЗНИ, И НИЧТО так не удручает нас как сознание того, что счастье это возможно, но для нас недоступно; самые печальные люди те, которые готовы безудержно веселиться, но не находят никого, кто разделил бы с ними их жизнерадостный порыв, и пребывают в унынии и тоске. Так думал и чувствовал я в те дни, потому что не знал, что на свете существуют вещи более важные и более постоянные, чем эта юношеская веселость.
Оставаясь сама собою, моя любимая что ни день казалась мне другим и все более непонятным существом, так что в конце концов я потерял всякую непосредственность в общении с нею и, чтобы излечиться от моего недуга, попытался, подобно отшельнику, удалиться в чащу; я заявил, что желаю поближе познакомиться с местностью и людьми, и под этим предлогом целыми днями, независимо от погоды, бродил по окрестностям. Но больше всего часов я проводил на лесистых холмах, под старыми елями или в заброшенных хижинах угольщиков, избегая всякого общества; это было весьма разумно уже по той причине, что, занятый непрестанно одним и тем же предметом, я терял власть над собой и начинал думать вслух, жалуясь на нестерпимую боль, которая сжимала сердце и которую я сотни раз безуспешно пытался подавить.
— Значит, эта чертовщина и есть настоящая любовь? — говорил я как-то раз сам себе, сидя под деревьями и глядя вдаль. Разве я съел хотя бы одним куском меньше, когда Анна была больна? Нет! Разве я пролил хоть одну слезу, когда она умерла? Нет! И все же я так носился со своим чувством! Я клялся навеки сохранить верность умершей, но мне и в голову не приходило клясться в верности этой живой девушке, так как это само собой разумеется, и я даже не могу представить себе ничего иного! Если бы она тяжело заболела или умерла, разве бы я был в состоянии внимательно наблюдать за событиями или даже описывать их? О нет, я чувствую, это сломило бы меня и весь мир бы померк. Каким же я был трезвым юношей, когда так платонически, так рассудительно любил, а ведь я тогда был совсем еще зеленым юнцом. Как бесстыдно целовал я и молоденькую девушку, и взрослую женщину, словно выпивал чашку молока к ужину! А теперь, когда я стал старше и повидал свет, мне жутко при одной мысли о том, что, может быть, эта пленительная, сердечная девушка когда-нибудь, в далеком будущем, разрешит поцеловать себя!
Потом я снова глядел вокруг; проходило несколько минут, я с любопытством рассматривал белые облака, или какой-нибудь предмет на горизонте, или колеблющуюся травинку у моих ног, и затем мысли мои неизменно возвращались к прежнему, потому что железный образ не позволял им надолго удаляться и бродить в отдалении. Как-то вечером я, погруженный в печальное раздумье, спускался по крутой каменистой тропинке и, внезапно оступившись, покатился кувырком по скале; не помню, как я очутился внизу; вдобавок, к стыду своему, я порядочно расшибся. В другой раз я сидел на каком-то забытом в поле плуге, посреди начатой борозды, и вид у меня был, наверно, весьма унылый и глупый, потому что деревенский парень, который, ухмыляясь каким-то своим мыслям, шел мимо с глиняным кувшином за спиной, вдруг остановился, уставился на меня и начал безудержно хохотать, вытирая рукавом нос. Даже этот несчастный кувшин, самодовольно и бесстыдно болтавшийся за спиной крестьянина (видимо, в нем была вечерняя выпивка), возбуждал мое негодование. Как можно было таскать с собой такой кувшин, как будто на свете не существовало Дортхен?