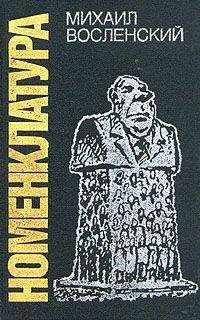Шандор отъехал вниз по течению, за мельницу, выбрал место помельче и переправился вброд на другой берег. Впрочем, коню всё-таки пришлось проплыть немного, и Шандор промок, но не беда, — палящее солнце ещё успеет высушить его штаны, обшитые бахромой. Он поехал по направлению к хортобадьской корчме. Здесь конь пошёл быстрее, оглашая окрестности весёлым ржанием.
В ответ со двора послышалось такое же весёлое ржание; там уже стоял привязанный к акации его белолобый приятель.
Двор хортобадьской корчмы собственно и двором-то нельзя было назвать. Скорее это был большой, поросший ромашками пустырь без всякой ограды, на котором стоял дом, конюшня и хлев. Под открытым небом недалеко от корчмы находился стол с двумя длинными скамейками, где под сенью деревьев гости обычно попивали вино. Табунщик соскочил с коня и привязал его за недоуздок к другой акации, не к той, где уже был привязан Белолобый.
В тени палисадника стояли два длинноухих, задумчивых осла, которые время от времени протягивали свои морды к свисавшим веткам, но не доставали их. Владельцы ослов восседали за столом под акацией. Несмотря на страшную жару, на них были вывернутые кожухи, такие кожухи лучше предохраняют от солнца. Парни пили дешёвое кислое вино из зелёной сулеи и напевали какую-то нескончаемую пастушью песню с монотонной и скучной мелодией. Оба они были чабанами, и коней им заменяли ослы.
Шандор Дечи уселся на краю скамейки, положил свою дубинку на стол и стал смотреть, как на горизонте нагромождаются пышные облака и земля вдали становится тёмно-синей. В одном месте виднелся жёлтый столб — смерч. А чабаны продолжали петь:
Когда чабан вино пьёт,
Осла его грусть берёт.
Не грусти, осёл, не надо,
Скоро пойдём вслед за стадом.
Табунщику надоели эти громкие песни, и он недовольно проворчал:
— Пора уж, Пишта, кончать эти нескончаемые песнопения да садиться на своего осла и скакать вслед за стадом, а то шуба намокнет.
— Э-э-э, что-то Шандор Дечи сегодня не в духе.
— Смотри, чтоб я как-нибудь не выпустил из тебя дух, если ты будешь здесь препираться со мной! — сказал табунщик, засучивая рукава до локтей. Сейчас он готов был дать взбучку каждому, кто попадётся ему под руку.
Оба чабана зашушукались. Им хорошо знаком степной обычай: если за стол сядет табунщик, то только с его разрешения чабан может примоститься рядом; если же ему говорят «уходи прочь», то нужно немедленно убираться.
Один из чабанов постучал бутылкой по столу:
— Получите с нас! Гроза надвигается!
На стук из корчмы вышла молодая корчмарка.
Она сделала вид, будто сразу не заметила табунщика, и стала заниматься чабанами. Подсчитала, сколько следует с них за вино, с красненькой дала сдачи медяками и, когда гости поднялись, вытерла залитый вином стол.
Чабаны вскочили на своих ослов и, очутившись, наконец, в полной безопасности, снова загорланили свою песню:
Шесть псов моих волка гонят.
Два подпаска с боков ловят.
Сам я бегу впереди,
Осёл серый позади.
Когда чабаны скрылись из виду, девушка обратилась к табунщику:
— Что ж ты, голубок мой дорогой, даже не поздороваешься?
— Моё имя Шандор Дечи, — хмуро буркнул табунщик.
— Очень приятно, ваша светлость. Виновата и прошу простить, если я вас обидела. Не угодно ли пожаловать в корчму?
— Спасибо. Мне и здесь хорошо.
— Там бы вы нашли достойную вашего чина компанию.
— Знаю. Вижу по лошади. Он сам выйдет ко мне.
— Что прикажете? Вина? Красного? Белого?
— Я не пью вина. Подайте мне пива в бутылке.
Пивом в запечатанной бутылке отравить невозможно: оно выльется, если вытащить пробку. Девушка поняла намёк, но не подала виду, как ей горько. Вскоре она возвратилась с бутылкой пива и поставила её перед парнем.
Табунщик надменно бросил ей:
— Что, я портновский подмастерье, что ли? Почему мне подают одну бутылку?
— Ну хорошо, хорошо! Только не сердитесь, ваша милость. Я мигом принесу ещё.
Немного погодя она принесла целых шесть бутылок.
— Вот теперь всё в порядке.
— Откупорить?
— Спасибо. Я и сам умею.
С этими словами он взял одну из бутылок и ударил горлышком о край стола так, что оно отлетело в сторону; потом вылил пенящееся пиво в большую кружку. В таких случаях пиво обходится дороже, потому что нужно платить и за разбитую бутылку, но, как говорится, у кого имеются деньги, тому и море по колено.
Обидевшись, девушка пошла к дому, вызывающе и кокетливо покачивая бёдрами. Золотые серёжки позвякивали у неё в ушах. Волосы у неё опять были не подобраны, не сколоты гребнем, а заплетены в две длинные косы, завязанные лентами. «Раз ты так, то и я так», — должна была говорить её походка.
Табунщик пил один, не спеша. Клари, проходя через веранду, напевала: «Знал бы ты, что знаю я, кого верно так люблю. Ты тогда бы так же плакал, как и я…» Вдруг песня оборвалась: девушка скрылась в доме, громко захлопнув за собой дверь. Когда она снова вышла, на столе перед табунщиком стояли уже три пустые бутылки с отбитыми горлышками. Она взяла их и вместе с осколками стекла положила в передник. После трёх бутылок пива и у парня изменилось настроение. Он вдруг обнял девушку за талию, когда Клари стала подметать возле стола.
Девушка даже не рассердилась.
— Можно с тобой говорить по-дружески? — спросила она.
— Всегда можно было, можно и теперь. Что же ты хотела сказать?
— А ты спроси что-нибудь.
— Почему у тебя заплаканы глаза?
— Потому, что я очень счастлива. Ко мне сватается жених.
— Кто такой?
— Старый вервельдский корчмарь. Вдовец. У него денег куры не клюют.
— И ты пойдёшь за него?
— Как же мне не пойти, раз берут. А ну, пусти!
— У тебя что ни слово, то ложь.
И он выпустил её из объятий.
— Будешь ещё пить?
— А почему же не пить?
— Смотри, чтобы тебя не разморило после пива.
— Это мне как раз и надо, чтобы охладить свой пыл. А тому, другому, дай вина покрепче, пусть он разогреется, чтобы нам быть друг другу под стать.
Тому, другому, девушка, вероятно, не сказала, что здесь находится Шандор Дечи. Табунщик решил сам дать знать о себе. Он запел насмешливую песенку, которой обычно дразнят пастухов. У Шандора был красивый, сильный голос, вся Хортобадь знала его.
Я пастух из Петри.
Гурт пасу из Петри,
Мой подпасок —
На метели.
Сам же я сплю на постели.
Он придумал хорошо! Ещё не кончилась песня, а из корчмы, точно на зов, уже вышел его милость пастух. Он нёс в одной руке бутылку с красным вином, на горлышке которой был надет стакан, а в другой — дубинку. Бутылку он поставил на конце стола, напротив табунщика, а дубинку положил рядом с его дубинкой и потом уже сел за стол против Шандора. Они не подали друг другу руки, а только молча кивнули головами, остальное, мол, ясно без слов.
— Ты что, приятель, уже вернулся из поездки? — спросил табунщик.
— Опять уеду, если захочу.
— В Моравию уедешь?
— Если не раздумаю, то уеду.
Они выпили.
Немного погодя табунщик снова спросил:
— Ты что же, на сей раз не один поедешь?
— Ас кем же мне ехать?
— Я тебя научу: возьми свою родную мать.
— Да она на всю Моравию не променяет место торговки в Дебрецене.
Они выпили ещё раз.
— Так ты, значит, уже распрощался с матерью?
— Да.
— И полностью рассчитался со старшим?
— Рассчитался.
— Ты больше никому не должен?
— Странные ты вещи спрашиваешь! Я не должен даже самому попу. А впрочем, что тебе за дело?
Табунщик покачал головой и отбил горлышко ещё у одной бутылки. Он собрался налить и пастуху, но тот закрыл стакан рукой.
— Что, не хочешь отведать моего пива?
— Я помню правило: «После пива вино — всегда, после вина пиво — никогда».
Табунщик сам выпил всю бутылку до дна и вдруг начал философствовать. Это часто случается с человеком после пива.
— Видишь ли, дружок, ничего нет на свете отвратительнее лжи. Я только раз в жизни солгал, да и то не для собственного спасения. Это и сейчас лежит камнем на моей совести. Чабанам ещё простительно врать, но парню, разъезжающему на коне, — ни-ни! У чабана даже предки, и те лгали. Их праотец Иаков провёл тестя со своим пёстрыми барашками, соврал ему. Он же ослепил своего родного отца рукавицей Исава: ему он тоже врал. Поэтому не удивительно, что все его потомки, пасущие овец, лгут. Ложь под стать чабану, но не пастуху.
Пастух захохотал во всё горло:
— Эх, приятель! Хороший бы вышел из тебя проповедник! Ты проповедуешь не хуже, чем легат из Балмазуйвароша на троицын день.
— Гм, дружок! Для тебя не велика беда, если б из меня вышел хороший проповедник; хуже то, что я мог бы быть и хорошим следователем. Ты говоришь, что никому на свете не должен ни ломаного гроша?