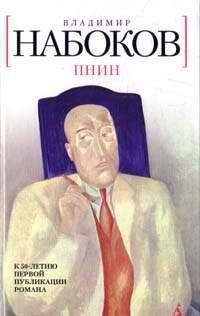6
Накануне того дня, когда Виктор собирался приехать, Пнин зашел в спортивный магазин на Главной улице Уэйнделя и спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали.
— Нет-нет,— сказал Пнин.— Мне не нужно ни яйца, ни торпеды. Я хочу простой футбол. Круглый!
И кистями и ладонями он изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о «гармонической цельности» Пушкина.
Приказчик поднял палец и молча достал европейский футбол.
— Да, это я куплю,— сказал Пнин с полным достоинства удовлетворением.
Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашел в книжный магазин и попросил «Мартина Идена».
— Иден, Иден, Иден,— забормотала высокая темноволосая женщина за прилавком, потирая лоб.— Постойте, вы имеете в виду книгу об английском министре, не правда ли?
— Я имею в виду,— сказал Пнин,— знаменитое сочиненье знаменитого американского писателя Джэка Лондона.
— Лондон, Лондон, Лондон,— сказала она, хватаясь за виски.
На помощь, с трубкою в руке, пришел ее муж, некий г-н Твид, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных глубин своего не слишком процветающего магазина старое издание «Сына волка».
— Боюсь,— сказал он,— это все, что у нас есть этого автора.
— Странно! — сказал Пнин.— Превратности славы! В России, помнится, все — маленькие дети, взрослые, доктора, адвокаты — все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но — окей, окей — я возьму ее.
Вернувшись домой, в тот дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в комнате для гостей наверху. Склонив голову набок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей бесформенной упаковке: он развернул его. Теперь была на виду его красивая кожа. Комната была чисто убранная и уютная. Школьнику должна понравиться эта картинка (профессорский цилиндр, сшибленный снежком). Поденщица только что сделала постель; старый Биль Шеппард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно, и снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Собирался дождь. Пнин закрыл окно.
В своей комнате, на том же этаже, он нашел записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону: в ней сообщалось, что он опоздает ровно на двадцать четыре часа.
Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий (все это тщательно скрывалось от Виндов), и не курил, в сущности, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запретный чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брейдом и Лансом Боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный, до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым, со всеми своими балками и досками, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась под хруст штукатурки, сыпавшейся из невидимых потолков внизу. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выеме под самым острием кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили; мальчики сознались. Тони Брейду, внуку славного сент-барского директора, было позволено уехать по семейным обстоятельствам; его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему двоюродный брат. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными.
Как я уже сказал, директором во времена Виктора был преподобный мистер Хоппер — безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со всей хопперовской семьей, то с той, то с другой стороны делались разного рода кристально-прозрачные намеки; особенно старалась г-жа Хоппер, сладкоголосая англичанка, тетка которой была замужем за графом: г-н Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к сеням.
Старомодные попечители школы могли оправдывать те два или три случая порки, которой Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности; но чего ни один мальчик не мог стерпеть, это гнусной ухмылочки, искривившей красные губы директора, когда он задержался по дороге в сени, чтобы подобрать аккуратно сложенный пакет — рясу и стихарь; автомобиль семейного типа стоял у дверей, я «на закуску к наказанию», по выражению мальчиков, этот фальшивый священнослужитель угостил их специальной службой в Радберне, в двенадцати милях от Крантона, в холодной кирпичной церкви с немногочисленными прихожанами.
Теоретически проще всего добраться до Уэйнделя из Крантона на таксомоторе до Фреймингама, оттуда до Албани курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении; в действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая, закоренелая распря, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения, но только как бы вы ни тасовали расписания, вам ни за что было не избежать по меньшей мере трехчасового ожидания поезда в Албани.
Можно было, правда, уехать из Албани одиннадцатичасовым автобусом, прибывавшим в Уэйндель в три часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из Фреймингама в 6.31 утра; Виктор знал, что не встанет вовремя; поэтому он предпочел более поздний и куда более медленный поезд, позволявший успеть в Албани на последний автобус в Уэйндель, который доставил его туда в половине девятого вечера.
Всю дорогу шел дождь. Дождь шел и когда он приехал на Уэйндельский автобусный вокзал. Из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности Виктор всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этому своему изъяну, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего высокого роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу и сходили на блестящий асфальт: две грузные старые дамы в полупрозрачных дождевиках, похожие на картофелины в целлофане; мальчик лет семи или восьми, стриженный ежиком, с нежным затылком; многоугольный застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбрался наружу по частям; три уэйндельские студентки в коротких штанах, с розовыми коленками; изнеможенная мать мальчика; еще несколько пассажиров; а потом — Виктор, с саквояжем в руке и двумя иллюстрированными журналами подмышкой.
Под аркой при входе в вокзал стоял совершенно лысый господин со смугловатым лицом, в темных очках и с черным портфелем, приветливо-вопросительно склонившись над тонкошеим мальчиком, который, однако, все качал головой и указывал на мать, ожидавшую появления своих чемоданов из чрева автобуса. Сдержанно и весело Виктор прервал этот quid pro quo[27]. Смуглоголовый господин снял очки и, разогнувшись, стал поднимать глаза выше-выше-выше на высокого-высокого-высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Хорошо развитые мышцы скул Пнина подтянулись и округлили его загорелые щеки; в улыбке участвовали лоб, нос и даже его большие уши. В общем, это была чрезвычайно удачная встреча.
Пнин предложил оставить саквояж на вокзале и пройтись один квартал пешком — если только Виктор не боится дождя (лило как из ведра, и асфальт, как горное озерцо, блестел в темноте под большими шумными деревьями). Пнин полагал, что столь поздняя трапеза в трактире должна доставить мальчику удовольствие.
— Доехали хорошо? Без неприятных происшествий?
— Да, сэр.
— Вы очень голодны?
— Нет, сэр. Не особенно.
— Меня зовут Тимофей,— сказал Пнин, когда они удобно устроились у окна в старом убогом трактире.— Второй слог произносится, как «мафф» (промах), ударенье на последнем слоге, «ей», как в «прей» (добыча), но чуть более растянуто. «Тимофей Павлович Пнин» — что значит «Тимоти, сын Поля». В отчестве ударенье на первом слоге, а остальные проглатываются — Тимофей Палч. Я долго обсуждал это сам с собой — вытрем-ка эти ножи и вилки — и пришел к заключению, что вам следует называть меня просто мистер Тим или даже еще короче — Тим, как зовут меня иные из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это — что вы будете есть? Телячью отбивную? Окей, я тоже буду есть телячью отбивную — это, конечно, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая иногда изумляет меня, но всегда вызывает уважение. Сначала меня очень смущала —