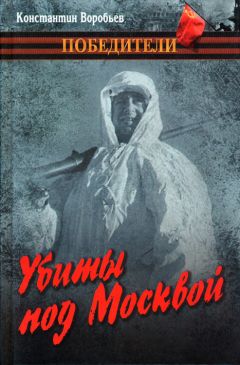Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея: «А что, если поехать с ними в лес?… Два — это немного… но если только два!»
— Когда вам рассказать? — живо спросил Сергей.
— О, сказайт сечас… поекайт зафтра. «А-а, подлюги, одного боитесь!» — опечалился Сергей и ответил:
— Я бежал один.
— Ви рассказайт, кто кушаль дафаль!..
— Я не заходил в дома. Я… воровал.
— Што фарафаль?
— Все… морковку, картошку…
— Што есть — фарафаль?
— Это значит вот так, — показал рукой Сергей.
— О, ви не стелайт так. Ви кушаль клеп и млеко… Тафаль литофци, корошо, я?… Ми тафайт им марк, што они тафаль вам кушаль!..
— Как жаль! Я этого не знал… Я бы не воровал, а заходил в дома…
— Ви не мошна фарафаль! — обозлился гестаповец. — Ви кодиль дом!
— Я не заходил в дома!..
— Ви не кочет сказайт? Ми будем сечас расстреляй тебя!..
— Я не заходил в дома!..
— А-а, ферфлюхт, мистр-менш!
Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают…
— Комт!
Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.
— Кушайт! Кушайт! — наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.
— Кушайт! — и удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой доске змеилась, виляя, живая лента крови… Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени.
А-а, проклятый червь навозный.
— Сечас рассказайт, кте кушаль! Не рассказайт — стреляйт!.. Айн… Цвай…
— Рассказайт!
— Цвай!
Сергей, прижав к носу рукав халата, чтоб задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненые дула браунингов.
— Драй!..
Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застлала коричневая теплая пелена.
— Рассказайт!
Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки.
«Чем они стреляют? Я, кажется, жив… А-а, это ведь крошки цемента от стен… Стреляют не по мне…»
И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену.
— Тах-тах!
— …сказайт!
— Тах-тах!
Потом хлопнула не видимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина… А вечером, по пустынным улицам, Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.
Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам.
— Ситуация осложняется, братцы! — говорил по этому поводу Мотякин. — Мы катастрофически рискуем лишиться баланды… Но, — продолжал он, — чем хуже — тем лучше! Как думает комиссар, почему? — обращался он к Устинову. — А потому, — отвечал он же, — что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе…
Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения.
Постепенно вагоны пустели. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка, лишь через два вагона от мотякинского, копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться: народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками.
— Я отправляюсь на рекогносцировку, — доложил Мотякин и прыгнул из вагона. Быстро оглядываясь, он начал разрывать бурт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Мотякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и Устинов.
Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток к построению.
— Успеть бы! — шептал Сергей. Спрыгнув в бурт, принялся руками ровнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Мотякин и Устинов.
Пронзительные переливы свистка настигли Сергея под четырехосным вагоном. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера вывозимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, недосчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам…
Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердца. Во всем теле ощущались торопливые толчки, онемевшие от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью.
«Крепись, лейтенант!.. Может быть, это последнее…»
Пучком ржаной соломы качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разостлался за вагоном, а растаяв в пространстве, снова родился под животом у Сергея… Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное, он тяжело дышит от неудобной позы.
«Может быть, это последнее…»
Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумпы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно:
— Ченай! Ченай! [28]
Оброненный им фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конвоиру. Тот, бормоча проклятья или молитву, полез на бурт, скользя и падая на обледеневших бураках.
Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин было раскрошено о его голову, спину, грудь: не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец — не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать…
«Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Мотякин начал разрывать бурт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка.
— Ну, кур, дар ду? [29]
— Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди!..
Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросился на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину.
В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженными ежиком волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом.
— Почему бежал?
— Это мое право.
— Ты сейчас увидишь свое собачье право!
— Знаю… твоя постыдная обязанность!.. Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден, что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу, у горна, зазвенела охапка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея…
В тридцать девятой потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчанье и тоске коротали вечера.
Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило Паневежис к набухшей водой земле, грязные лохмотья туч царапали гноящиеся по утрам дровяным дымом култышки труб. Опростоволосившиеся деревья притюремного парка скулили свистом веток о запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным.
Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтоб не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами.
На пятый день после того, как из тридцать девятой камеры Мотякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми истуканами стыли у стены, ожидая свистка к отбою. Под учащенное дыхание девяти человек вдруг осклабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель.