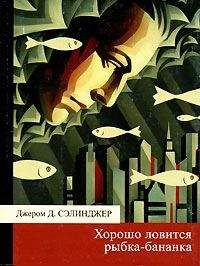— Он в ярости, — сказала Эсме. — Невероятно вспыльчивый темперамент. У мамы была сугубая тенденция его баловать. Отец был единственный, кто его не портил.
Я продолжал наблюдать за Чарльзом. Он уселся за свой столик и стал пить чай, держа чашку обеими руками. Я ждал, что он обернется, но напрасно.
Эсме поднялась.
— Il faut que je parte aussi, — сказала она, вздыхая. — Вы знаете французский?
Я тоже встал — со смешанным чувством печали и смущения. Мы с Эсме пожали друг другу руки. Как я и ожидал, рука у нее была нервная, влажная. Я сказал ей — по-английски, — что общество ее доставило мне большое удовольствие.
Она кивнула.
— Полагаю, что так оно и было, — сказала она. — Я довольно коммуникабельна для своего возраста. — Тут она снова коснулась рукой головы, проверяя, высохли ли волосы. — Ужасно жаль, что у меня такое с волосами. Мой вид, должно быть, внушает отвращение.
— Вовсе нет! Если на то пошло, волосы уже опять волнистые.
Быстрым движением она снова коснулась головы.
— Как вы полагаете, окажитесь вы здесь снова в ближайшем будущем? спросила она. — Мы бываем здесь каждую субботу после спевки.
Я ответил, что это было бы самым большим моим желанием, но, к сожалению, я твердо знаю, что больше мне прийти не удастся.
— Иными словами, вы не вправе сообщать о переброске войск, — сказала Эсме, но не сделала никакого движения, которое говорило бы о ее намерении отойти от столика.
Она стояла, переплетя ноги, и глядела на пол, стараясь выровнять носки туфель. Это получалось у нее красиво — она была в белых гольфах, и на ее стройные щиколотки и икры приятно было смотреть. Внезапно Эсме взглянула на меня.
— Вы хотели бы, чтобы я вам писала? — спросила она, слегка покраснев. — Я пишу чрезвычайно вразумительные письма для человека моего…
— Я был бы очень рад. — Я вынул карандаш и бумагу и написал свою фамилию, звание, личный номер и номер моей полевой почты.
— Я напишу вам первая, — сказала она, взяв листок. — чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя ском-про-менти-ро-ванным. — Она положила бумажку с адресом в карман платья. — До свидания, — сказала она и направилась к своему столику.
Я заказал еще чаю и сидел, продолжая наблюдать за ними до тех пор, пока оба они и вконец замученная мисс Мегли не поднялись, чтобы уйти. Чарльз возглавлял шествие — он хромал с трагическим видом, как будто у него одна нога на несколько дюймов короче другой. В мою сторону он даже не посмотрел. За ним шла мисс Мегли, а последней Эсме — она махнула мне рукой. Я помахал ей в ответ, приподнявшись со стула. Почему-то волнение охватило меня.
Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарльза за рукав курточки.
— Чарльз хочет поцеловать вас на прощание, — объявила она.
Я сразу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но вполне ли она уверена?
— Вполне, — ответила Эсме несколько мрачно. Она выпустила рукав Чарльза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и влепил мне звучный мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он направился было прямиком к двери и к иной жизни, где обходятся без таких сантиментов, но я поймал его за хлястик и, крепко за него ухватившись, спросил:
— А что говорит одна стенка другой стенке?
Лицо его засветилось.
— Встретимся на углу! — выкрикнул он и опрометью бросился за дверь видимо в диком возбуждении.
Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги.
— А вы вполне уверены, что не забуду написать для меня рассказ? спросила она. — Не обязательно, чтобы он был специально для меня. Пусть даже…
Я сказал, что не забуду нив коем случае — это совершенно исключено. Что я никогда еще не писал рассказа специально для кого-нибудь, но что сейчас, пожалуй, самое время этим заняться.
Она кивнула.
— Пусть он будет чрезвычайно трогательный и мерзостный, — попросила она. — Вы вообще-то имеете достаточное представление о мерзости?
Я сказал, что не так чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ней сталкиваться — в той или иной форме, — и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки.
— Жаль, что нам не довелось встретиться при обстоятельствах не столь удручающих, правда?
Я сказал, что, конечно, жаль, еще как.
— До свидания, — сказала Эсме. — Надеюсь, вы вернетесь с войны, сохранив способность функционировать нормально.
Я поблагодарил ее и сказал еще несколько слов, а потом стал смотреть, как она выходит из кафе. Она шла медленно, задумчиво, проверяя на ходу, высохли ли кончики волос.
А вот мерзостная — или даже трогательная — часть этого рассказа. Место действия меняется. Меняются и действующие лица. Я по-прежнему остаюсь в их числе, но по причинам, которые открыть не волен, я замаскировался, притом так хитроумно, что даже самому догадливому читателю меня не распознать.
Это было в Гауфурте, в Боварии, примерно в половине одиннадцатого вечера, через несколько недель после Дня победы над Германией. Штаб-сержант Икс сидел в своей комнате, на втором этаже частного дома, куда он вместе с девятью другими американскими военнослужащими был назначен на постой еще до прекращения боевых действий. Примостившись на складном деревянном стуле у захламленного письменного столика, он держал перед собой раскрытый роман в бумажной обложке и пытался читать, но дело не ладилось. Впрочем, неладно было с ним самим, а не с романом. Правда, книги, ежемесячно приходившие из Отдела специального обслуживания, прежде всего попадали в руки солдатам с нижнего этажа, но на долю Икса обычно доставались книжки, которые он, видимо, выбрал бы и сам. Однако этот молодой человек был один из тех, кто, пройдя через войну, не сохранил способности «функционировать нормально», и потому он больше часа перечитывал по три раза каждый абзац, а теперь стал проделывать то же самое с каждой фразой. Внезапно он захлопнул книгу, даже не заложив страницу. На мгновение заслонил глаза рукой от резкого, слепящего, холодного света голой электрической лампы, висевшей над столом.
Затем вынул сигарету из лежащей на столе пачки и с трудом закурил ее — пальцы его тряслись, то и дело легонько стукаясь друг о друга. Сев чуть поглубже, он затянулся, совершенно не чувствуя вкуса дыма. Уже много недель он дымил беспрерывно, закуривая одну сигарету от другой. Десны его кровоточили, стоило прикоснуться к ним кончиком языка, и он без конца повторял этот опыт: это уже превратилось в своего рода игру, и он иногда занимался ею часами. Так сидел он минуту-другую — курил и проделывал тот же опыт. Потом внезапно и, как всегда, неожиданно его охватило привычное чувство — будто в голове у него спуталось, она потеряла устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке. Он сразу прибег к тому средству, которое уже много недель помогало ему водворить мир на место, — стиснул виски ладонями и с силой сжимал их несколько секунд. Он оброс, волосы у него были грязные. Он мыл их раза три-четыре в госпитале, во Франкфурте-на-Майне, где пролежал две недели, но на обратном пути в Гауфурт за время длинной поездки в пропыленном джипе они загрязнились снова. Капрал Зет, забравший его из госпиталя, по-прежнему гонял на своем джипе на фронтовой лад — опустив ветровое стекло на капот, а идут военные действия или нет — дело десятое. В Германию были переброшены тысячи новобранцев, и, разъезжая на своем джипе по-фронтовому, с опущенным ветровым стеклом, капрал Зет желал показать, что он то не из таковских, он не какой-нибудь там дерьмовый новичок на европейском театре военных действий.
Перестав наконец сжимать виски, Икс долго смотрел на письменный стол, где горкой лежало десятка два нераспечатанных писем и штук шесть нераскрытых посылок — все на его имя. Протянув руку над этой свалкой, он достал прислоненный к стене томик. То была книга Геббельса. Принадлежала она тридцативосьмилетней незамужней дочери хозяев дома, живших здесь всего несколько недель тому назад. Эта женщина занимала какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту. Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце. Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами было написано по-немецки пять слов: «Боже милостивый, жизнь — это ад». Больше там ничего не было — никаких пояснений. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинения, некой классической его формулы. Икс вглядывался в них несколько минут, стараясь не поддаваться, а это было очень трудно. Затем взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал нив одно дело, приписал внизу по-английски: «Отцы и учителя, мыслю: „Что есть ад?“» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Он начал выводить под этими словами имя автора Достоевского, — но вдруг увидел — и страх волной пробежал по всему его телу, — что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Тогда он захлопнул книгу.