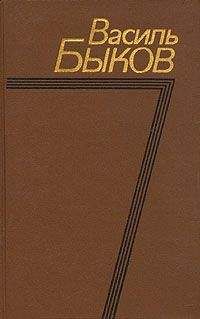Поразмыслив, однако, Сущеня стал успокаиваться — что теперь ему ворон! Может, на живого не кинется, а Бурова уж он защитит. Пока сам жив, Бурова он им не отдаст, может, тем и отплатит свой долг покойнику, все-таки Сущеня ему обязан. Жизнью обязан. Другое дело, чем в конце концов обернется эта его жизнь. Что принесет в итоге — освобождение или гибель похуже.
Воронья угроза и смутное желание дождаться Войтика вынудили Сущеню отказаться от намерения уйти с этого места, и, хотя было холодно и страшновато, он терпеливо ждал. Он сел на траву возле ног покойника, сжался, сгорбился, зажал под мышками озябшие руки. Буров лежал в ненужной теперь ему шинели, но Сущеня не решался его раздевать, чтобы укрыться самому, руки не поднимались. Он все ждал, что вот-вот появится Войтик с повозкой и они поедут отсюда. Куда поедут? Да куда-нибудь, все равно, лишь бы подальше от этого вороньего сосняка, может, куда к людям.
Но шло время, а Войтик не появлялся. Вороны тоже никуда не улетали. Покачиваясь на ветру вместе с сосенками, озираясь по сторонам, иногда менялись местами и незаметно, исподволь все плотнее обкладывали полянку. Под вечер их уже собралось в сосняке около дюжины, и впереди на самой рослой сосенке восседал тот крупный и хищный ворон, пристально следил за человеком внизу.
Как-то неприметно надвинулся вечер; облачное небо еще больше нахмурилось, из-под сосенок стал расползаться сумрак, плотнее окутывая тесную прогалинку. Три вороны с дальних верхушек улетели куда-то одна за .другой, остальные сидели, чего-то терпеливо ожидая. «Черт бы вас побрал!» — мысленно ругался Сущеня, махая на них руками. Только напрасно — птицы ничуть не пугались, будто понимали всю тщету его бессильных угроз. Было похоже на то, что эти остальные не собирались никуда улетать. Уж не надумали ли они заночевать тут, подумал Сущеня. Когда совершенно стемнело и в небе остались лишь тонкие силуэты сосновых верхушек, погрузились в темноту и вороны. Однако время от времени в чаще поодаль слышалось неясное шевеление, некоторые верхушки беспокойно пошатывались, значит, воронье ждало.
Войтика же все не было.
К ночи Сущеню стала сильно донимать усталость. Уже сколько раз он ловил себя на том, что начинает дремать, и тревожно подхватывался, вставал, начинал ошлепывать себя руками, чтобы разогнать сон и согреться. Но это не согревало, лишь утомляло больше прежнего, хотелось прилечь, свернуться, забыться во сне. Совершенно обессилев в долгой борьбе со сном, уже в сплошной темноте он наконец не стерпел и лег рядом с покойником — боком на полу его распахнутой шинели. Буров давно утратил остатки живого тепла, но Сущене возле него все-таки показалось уютнее, будто теплее даже. И он притих со своими печальными мыслями, плотнее прижимаясь спиной к затвердевшему телу покойника. Все думал, почему так жестоко ему не повезло в эту войну, в чем его вина перед людьми. Почему именно его настигла такая безжалостная судьба? Чем он заслужил свою горькую участь?
Может, не следовало быть таким уж щепетильным, как-нибудь исхитриться и по возможности обмануть немцев, вывернуться из беды. Выкручиваются же другие. Но, видно, тут все дело в душе: в том, что может она принять, а что нет — ни при каких обстоятельствах. Есть люди. способные меняться по нескольку раз в день, не то что за жизнь, с одним человеком они одни, а с другим другие. Становятся такими, какими им стать удобнее. Но вот беда, Сущеня так не умел. Да и не хотел никогда. Он хотел оставаться собой, какой он ни есть.
Вся большая сущеневская семья, сколько он помнил, жила в каком-то обостренном стремлении к правде и чистоте в отношениях с ближними — родней, соседями. В годы своей молодости Сущеня не мог даже представить, как это возможно, например, одолжить и не отдать или даже не одолжить тому, кто просил и нуждался, если это можно было сделать. Сами всегда жили трудно, пожалуй, бедно, каждый пуд хлеба, кусок сала, каждая копейка были очень нужны. Но если приходила к ним бобылка Христина с прижитым ею без мужа ребенком, Сущени отдавали последнее — какой-нибудь кусок хлеба, тряпку или рубль на лекарство. Конечно, всегда было жаль, всегда не хватало самим, но мать или бабка Хведора в таких случаях говорили, что нельзя гневить бога, не пособить и без того обиженной людьми и богом. Бабка Хведора ревностно следила и за ними, малыми, и потом, как выросли, чтобы не было какой несправедливости в отношении к младшим или там соседям, и, если что случалось, корила своих больше, чем чужих, хотя частенько свои и были менее всего виноваты. Или совсем не виноваты, как тогда, с Пилиповыми снопками.
Живший в другом конце деревни, у станции, дядька Пилип возил сжатый ячмень от реки и потерял четыре снопка. Снопки эти видели все Сущени — и мать, и дети, и бабка Хведора, те с полдня валялись на стежке возле их огорода, дядька Пилип, наверное, еще не хватился потери, а как хватился и вернулся за ними на стежку, снопков уже не было. Снопки пропали. Известное дело, дядька расстроился, особенно когда услышал от Сущеней, что снопков никто из них не брал, а куда те подевались, никто не знает. Погоревал дядька Пилип и ушел, а в хате у Сущеней поднялась тревога, бабка Хведора едва не плакала, ведь он же подумает на них, Сущеней. Тех Сущеней, которые в жизни не сорвали бобового стручка за чужим плетнем, не подняли опадыша из чужого сада. Весь вечер Сущени решали, как избежать нелепого подозрения. Дело осложнялось еще и тем, что свой ячмень они уже обмолотили, в пуньке не осталось ни одного снопка с зерном. И бабка Хведора сбегала через три хаты к хромому Змитроку, у которого и одолжила четыре снопка ячменя, а Сущеня отнес их Пилипу, сказал, что малые, балуясь вчера, их прибрали со стежки, никому о том не сказав. Дурацкая, в общем, ситуация, но подозрение все-таки было отведено от Сущеней, хотя и не очень обычным способом. И бабка Хведора сказала: «А черт их бери, те снопки, теперь хоть спокойно спать будем». Дядька Пилип не серчал, и все было бы хорошо, если бы в душе у Сущени не осталась крошечная занозинка: кто-то все же попользовался теми Пилиповыми снопками, как и сущеневским простодушием тоже. Хотя разве это в первый или в последний раз? Всегда в таких случаях бабка утешала: «А пусть. Себе спокойнее будет». Бабка и мать, пока были живы, всегда стремились к покою в душе. Но их давно уже нет, а эта военная история все перевернула внутри у Сущени и готова была отнять жизнь, не только покой души.
Ужасная ночь в сосняке длилась для Сущени бесконечно долго; он то дремал урывками, то содрогался от стужи и тревоги, вскидывал голову, слушал. Когда научался дождь, сделалось и вовсе невмоготу, от дождя тут негде было укрыться, кроме как под сосновыми ветвями рядом. Уже намокнув, он перетащил Бурова под низко нависшие лапки ближней сосенки и, наконец решившись, снял с него мокрую, пропитанную кровью шинель. Сам снова лег рядом и, словно с живым, вместе накрылся его шинелью. Так стало терпимее, по крайней мере, не текло на лицо. И он вроде уснул…
Долго ли спал, неизвестно, только вдруг вздрогнул от отчаянного крика поблизости. Это был крик ребенка. Сущеня узнал его сразу, так мог плакать только его сынишка Гришутка, и столько вырвалось в том крике недетского горя, что Сущеня на секунду опешил. Затем сломя голову кинулся за угол сарая, по крапиве на огород, показалось, плач слышался именно оттуда. Но в огороде никого не было, а плач доносился уже из сада, из-под рядка вишен, обросших малинником снизу. Боясь опоздать, Сущеня побежал туда, перелез через подгнивший трухлявый забор, однако и под вишнями никого не было; плач-крик уже доносился с другой стороны — со двора. Гришутка прямо-таки захлебывался в отчаянии, наверное, случилось что-то страшное, и Сущеня ужаснулся при мысли, что опоздает. Вдоль забора по обмежку он подбежал ко двору и только выскочил из-за угла, как целая стая ворон поднялась над крышами построек — озлобленный птичий грай взвился под самое небо, вороны махали крылами, костяно клацали черными клювами, норовя растерзать человека. Защищаясь, Сущеня вскинул над головой руки, втянул голову в плечи, готовый броситься прочь. А ребячий плач между тем все доносился откуда-то, понемногу утихая или, возможно, отдаляясь в пространстве. Потом и остальное стало утихать, постепенно терять четкость и смысл в изменчивом наплыве сна…
Позже он проснулся с каким-то стойким ощущением тревоги, которая еще больше усилилась наяву. Полежав под низко нависшими ветками, вслушался: нет, человеческого голоса или плача нигде не было слышно, вокруг все затихло, перестали шуметь деревья; лишь вблизи, над полянкой, слышалась знакомая возня ворон, они все суетились, перелетая с ветки на ветку, будто дожидаясь чего-то. С мрачной решимостью Сущеня вылез из-под сосенки. После ночного дождя в зарослях было стыло и волгло, влажные клочья тумана скупо цедились сквозь густое сплетение ветвей, цепляясь за тонкие верхушки сосенок, сплошь устилая собой низкое небо. Было тихо, безмолвно, безветренно. Над самой полянкой низко обвисли колючие ветки, обсыпанные множеством мелких прозрачных капель, и он снова промок. Проклятое воронье не отступалось. В этот раз он не стал их тщетно пугать руками, а, осторожно пробравшись между сосенками на широкую, затянутую туманом просеку, нашел там подходящую палку и. обломав с нее сучья, вернулся на прогалину.