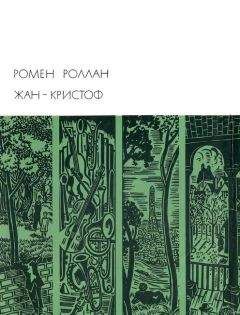— Одно только никак не ладится.
— Что такое, скажите скорей! Мы все устроим. Мне очень хочется, чтобы вы были довольны.
— С певицей не ладится. Между нами говоря, она ниже всякой критики.
Сияющее лицо Руссэна вдруг застыло, и он проговорил ледяным тоном:
— Вы меня удивляете, дорогой мой.
— Она никуда не годится, решительно никуда, — продолжал Кристоф. — Ни голоса, ни вкуса, ни школы, ни тени таланта. Вам повезло, что вы не слышали ее писка!..
Руссэн, лицо которого все более и более вытягивалось, оборвал Кристофа и резко заметил:
— Я хорошо знаю мадемуазель де Сент-Игрен. Она очень талантливая артистка. Я большой ее поклонник. В Париже все знатоки разделяют мое мнение.
И, повернувшись спиной к Кристофу, он подошел к артистке, предложил ей руку и вышел вместе с ней. Оторопевший Кристоф молча проводил глазами парочку. Тогда Сильвен Кон, наслаждавшийся этой сценой, взял Кристофа под руку и, спускаясь по лестнице, сказал ему со смехом:
— Да неужели же вы не знали, что она его любовница?
Тут Кристоф понял. Значит, это ради нее, а вовсе не ради него ставили пьесу! Ему стал теперь ясен энтузиазм Руссэна, его щедрость, рвение его приспешников. Сильвен Кон рассказал ему историю этой самой Сент-Игрен: певичка из мюзик-холла, блеснувшая в театральных заведениях соответствующего рода, возмечтала, как и многие ее товарки, о подмостках, более достойных ее талантов. Она рассчитывала, что Руссэн устроит ей ангажемент в Оперу или в «Опера комик», и Руссэн, охотно шедший ей навстречу, усмотрел в постановке «Давида» прекрасный случай для того, чтобы без риска показать парижской публике вокальные данные новой трагической актрисы в роли, почти вовсе не требовавшей игры, но весьма выгодно подчеркивавшей изящество ее форм.
Кристоф внимательно выслушал до конца всю историю; потом высвободил свою руку из руки Сильвена Кона и расхохотался. Он хохотал долго. Нахохотавшись, он сказал:
— Как вы мне противны! Как вы все мне противны! Вам нет дела до искусства. Всюду и везде женщины. Ставят оперу для танцовщицы, для певицы, для любовницы такого-то или любовника такой-то. У вас в голове одно свинство. Ну что ж, я на вас не в претензии: вы таковы и оставайтесь такими, если уж вам это нравится, — барахтайтесь в своем болоте. Но нам с вами надо расстаться: мы не созданы для совместной жизни.
Распрощавшись с Коном, он вернулся домой и написал Руссэну, что забирает обратно свою пьесу, не скрыв мотивов своего поступка.
Это был полный разрыв с Руссэном и всем его кланом. Последствия не замедлили сказаться. Газеты уже было подняли шум вокруг предполагавшейся постановки, — история ссоры композитора с исполнительницей стала предметом оживленных пересудов. Какой-то дирижер заинтересовался «Давидом» и исполнил его на одном из воскресных утренников. Эта удача оказалась роковой для Кристофа. «Давида» освистали. Друзья певицы сговорились проучить дерзкого, а публика, которой симфоническая поэма показалась скучной, охотно присоединилась к приговору знатоков. В довершение неудач Кристоф, желая блеснуть талантом пианиста, имел неосторожность выступить в том же концерте с фантазией для рояля и оркестра. Во время исполнения «Давида» публика, щадя певцов, до некоторой степени сдерживалась, но когда перед ней появился сам автор, игра которого к тому же была небезукоризненна, слушатели дали волю своим чувствам. Кристоф, выведенный из себя шумом в зале, резко оборвал пьесу на середине и, насмешливо взглянув на притихшую публику, заиграл: «Мальбрук в поход собрался»{150}.
— Вот что вам нужно! — заносчиво крикнул он, встал и ушел.
Поднялась невероятная суматоха. Кричали, что он оскорбил публику и должен принести свои извинения с эстрады. На другой день газеты растерзали в клочья смешного немца, который получил по заслугам от Парижа — законодателя вкусов.
И затем снова пустота, полная, абсолютная. Еще раз Кристоф остался одиноким, более одиноким, чем когда-либо, в большом городе, чужом и враждебном.
Но его это не огорчало. В нем уже утверждалась мысль, что такова, видно, его судьба и что таким он останется всю жизнь.
Он не знал, что великая душа никогда не бывает одинокой, что, как бы ни обошла ее дружбой скупая судьба, рано или поздно она сама создаст себе друзей, что, сама исполненная любви, она излучает вокруг себя любовь и что даже в тот самый час, когда он считал себя обреченным на вечное одиночество, Кристоф был богаче любовью, чем все счастливцы на земле.
Стивенсов жила девочка тринадцати — четырнадцати лет, которой Кристоф давал уроки одновременно с Колеттой. Она приходилась двоюродной сестрой Колетте; звали ее Грация Буонтемпи. По-деревенски здоровая, с золотистой кожей и нежным румянцем на пухленьких щечках, с немного вздернутым носиком, большим, резко очерченным, полуоткрытым ртом, с круглым, выделявшимся своей белизной подбородком, со спокойными, мягко улыбающимися глазами и выпуклым лбом, обрамленным густыми и длинными шелковистыми волосами, спускавшимися вдоль щек легкой волной, без завитков, девочка эта напоминала маленькую мадонну Андреа дель Сарто с широким лицом и прекрасным молчаливым взором.
Грация была итальянка. Родители ее жили почти круглый год в деревне, в большом поместье на севере Италии: долины, луга, каналы. С крыши, где была устроена терраса, виднелась волнообразная линия золотистых виноградников, прорезанных черными силуэтами кипарисов. А дальше шли поля, поля. Тишина. Слышно было лишь мычанье волов, пахавших землю, да резкий крик крестьянина, шедшего за плугом: «Ihi! Fat innanz!..»[60]
В деревьях звенели стрекозы, вдоль каналов квакали лягушки. А ночью безбрежная тишина, залитая серебряными потоками лунного света. Время от времени доносились издалека ружейные выстрелы, — то дремавшие в шалашах полевые сторожа предупреждали вора, что они бодрствуют. И, услышав сквозь сон эти выстрелы, местные жители поворачивались на другой бок, как будто вдали просто пробили часы, мирно отмечавшие бег ночи. И тишина снова обволакивала душу мягким широким плащом.
Жизнь вокруг маленькой Грации казалась дремотной. На девочку почти не обращали внимания. Она мирно росла, овеянная ласковым спокойствием. Ни волнений, ни торопливости. Грация была ленива, любила бесцельно бродить и долго спать. По целым часам лежала она, растянувшись, в саду. И ее медленно уносила тишина, словно мушку, попавшую на поверхность полузасохшего в жару ручейка. Иногда вдруг она беспричинно вскакивала и принималась бегать. Бегала она, как зверек, — изящно и легко, чуть склонив набок головку. Настоящий козленок, который карабкается и прыгает среди камней ради удовольствия прыгать. Грация разговаривала со всеми: с собаками, с лягушками, с травой, с деревьями, с соседями, с домашними животными. Обожала все окружающие ее маленькие существа, да и большие тоже, но с последними была сдержаннее. Людей она видела мало. Поместье было уединенное и находилось в стороне от города. Редко-редко по пыльной дороге медленно проходил степенный крестьянин или проплывала, высоко подняв голову и выпятив грудь, красивая крестьянка с яркими на загорелом лице глазами. Целые дни Грация проводила одна в молчаливом парке, никого не видела, никогда не скучала, ничего не боялась.
Однажды на пустынную ферму забрался бродяга, решив стащить курицу. Он в недоумении остановился перед лежавшей в траве девочкой, которая, напевая песенку, с аппетитом уплетала бутерброд. Она спокойно взглянула на пришельца и спросила, что ему здесь нужно. Он ответил:
— Дайте мне что-нибудь, не то я рассержусь.
Она протянула ему бутерброд и сказала с улыбкой:
— Не надо сердиться.
Бродяга ушел.
Мать Грации умерла. Отец, очень добрый и бесхарактерный старик, чистокровный итальянец, крепкий, веселый, сердечный, похожий на большого ребенка, был совершенно неспособен руководить воспитанием дочери. Приехавшая на похороны сестра старика Буонтемпи, г-жа Стивенс, поразилась, увидев, в каком одиночестве растет ребенок. Желая отвлечь девочку от постигшего ее горя, она решила увезти ее на время в Париж. Грация расплакалась, и старик отец тоже, но, когда г-жа Стивенс принимала какое-нибудь решение, оставалось только покориться: никто не мог ей перечить. Она считалась в семье государственным умом и у себя в Париже управляла всеми: мужем, дочерью, любовниками, ибо не забывала ни о долге, ни об удовольствиях, — словом, была женщина практичная и пылкая, а также очень светская и очень деятельная.
Переселенная на парижскую почву, спокойная Грация стала обожать свою взбалмошную красивую двоюродную сестрицу, что забавляло Колетту. Ласковую дикарочку начали вывозить в свет, водить по театрам. С ней продолжали обращаться как с ребенком, да и сама она считала себя маленькой девочкой, хотя уже перестала ею быть. Иные свои чувства — порывы безграничной нежности к предметам, к людям, к животным — она уже начинала скрывать и пугалась их. Втайне она была влюблена в Колетту: таскала у нее ленты, носовые платки, часто в ее присутствии лишалась даже дара речи и, поджидая ее, зная, что сейчас увидит свой кумир, дрожала от нетерпения и счастья. Когда в театре, в ложе, где она сидела, появлялась ее хорошенькая кузина, сверкая обнаженными плечами и привлекая к себе все взгляды, на лице Грации появлялась добрая, застенчивая, ласковая, сиявшая любовью улыбка, и сердце ее таяло, когда Колетта обращалась к ней с вопросом. В белом платье, с распущенными по смуглым плечам красивыми черными волосами, Грация, покусывая кончики своих длинных перчаток, в разрез которых она машинально всовывала палец, — поминутно оборачивалась во время спектакля к Колетте, чтобы поймать дружеский взгляд, разделить с нею удовольствие, сказать ей своими ясными карими глазками: «Я вас очень люблю!»