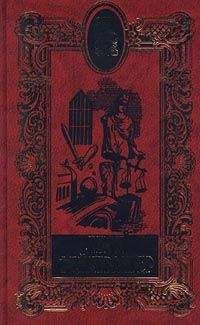На следующий день он поехал к Иоганне. Сообщил ей, что мистеру Поттеру пришла удивительная мысль. Книги Мартина Крюгера произвели на американцев сильное впечатление. Мистер Поттер желал бы, чтобы Тюверлен в рамках кинофильма рассказал о жизни и смерти Мартина Крюгера. Мистер Поттер брался, пользуясь своими связями, распропагандировать этот фильм так, чтобы дать Тюверлену возможность обратить свою речь ко всему миру.
Он, щурясь, поглядывал на Иоганну. Она молчала. Но он видел, как вся она замерла. Он сидел перед ней с безобидным и лукавым видом, пил чай. Видя, что она упорно молчит, он в конце концов заговорил снова. Все, что он мог сказать о деле Крюгера, он, собственно, уже сказал в своем очерке. Прекрасный очерк, как он мог убедиться, перечитав его, но для целей мистера Поттера едва ли пригодный. Ему не хватает огня для такой штуки, которая с экрана должна дойти до людей всего мира – до желтых и черных, до коричневых и белых, до дельцов и аскетов, до интеллигентов и политиков.
Иоганна все еще молчала. Продолжать ли ему говорить? Ему очень хотелось. Хорошо было, что он, подчиняясь какому-то наитию, этого не сделал.
Она сидела оглушенная, закусив верхнюю губу. Все это, разумеется, были великодушные выдумки. Очерк пылал ярким огнем, только совсем особым, а не обычным огнем любви и ненависти. Ее трогало и наполняло нежностью, что человек ради нее отрекался от своего произведения. Немного погодя она сказала:
– Да, пожалуй, это не тот огонь, который нужен для кино.
Он делал вид, что страшно занят своим чаем, лицо его было все в складочках и морщинках, малый ребенок за десять километров мог увидеть, как хитро и наигранно было это безразличие. Иоганна увидела это и вдруг от души рассмеялась. Тогда он поднялся и пригласил и эту высокую девушку отправиться на осеннее праздничное гулянье, предварительно, однако, поцеловав ее.
В большой бело-голубой палатке, где подавали пиво, в толпе шумно наслаждавшихся мюнхенцев, Иоганна Крайн спросила писателя Тюверлена, считает ли он возможным, чтобы вместо него в звуковом фильме мистера Поттера выступила она. Не дожидаясь его ответа, она высказала ему все, что накопилось в ней за это время. Под пьяный шум и звуки старомодных песен о том, что «никак, никак мух этих не поймать», и о том, «зачем крестьянину шляпа», под грохот духовой музыки, среди пива, кренделей, сосисок, поджаренной на вертеле рыбы, среди буйного гомона и вони – она рассказала ему, как все эти месяцы терзало ее то, что ей не давали говорить, и то, что книги Крюгера заслоняли замученного человека, и какое чувство освобождения она испытывает сейчас, когда всплывает перед ней надежда, что она все же сможет говорить. Тюверлен, щурясь, глядел на нее и затем предложил ей «разорвать крендель», что у мюнхенцев считалось знаком особой близости. И оба они зацепили пальцем, каждый со своей стороны, соленый крендель и разорвали его. Духовой оркестр играл «Пока течет по городу зеленый Изар, не иссякнут в Мюнхене веселье и уют». Затем сыграли марш тореадоров и снова «Да здравствует уют!». Тюверлен подпевал. И он и Иоганна пили из больших серых кружек.
Иоганна трудилась. Фильм «Мартин Крюгер» был в работе. С помощью фильма, поддержанного деньгами и могуществом Калифорнийского мамонта, ударить по нервам и совести людей – это была неожиданная, неповторимая возможность. Ее надо было использовать всю без остатка. Работа была нелегкая. Нередко то, что Иоганна считала правдой жизни, расходилось с той эффективностью, к которой с полным правом стремились ее товарищи по работе. Было ли вообще возможно осуществить то, чего она желала? Разве можно свою горечь и страстное возмущение поставить перед киноаппаратами, объективами, операторами? Разве можно сфотографировать свою душу?
Жак Тюверлен видел, как она выбивается из сил. Он охотно помог бы ей, но он никогда прямо не говорил с ней о фильме, над которым она трудилась с такими мучениями. Дело требовало, чтобы эта работа была сделана ею. Он – пришелец, охотник за наслаждениями; Иоганна – это кусок Баварии. Сама Бавария должна была свидетельствовать против Баварии. Он теперь научился настоящими глазами смотреть на Иоганну Крайн и на Баварию и довольствовался почти безмолвной, бережной поддержкой, которая одна только не отпугивала ее. Осторожно извлекал он здоровый гнев, таившийся в этой крепкой женщине. Он раскрывал ее. Исчезало то, что было в ней судорожного. Она чувствовала себя освобожденной из невидимой клетки. Между ними без слов установилась новая общность и близость.
Как-то неожиданно оказалось, что из этой тихой бескорыстной работы он извлекает пользу для своей книги. Его материал пришел в движение, закружился, задвигался, начал дышать. Но среди этого живого материала лежало все еще неподвижное, не вышедшее за пределы простого понимания дело Крюгера. Вначале Жак Тюверлен оставил его в стороне: оно не имело значения для «Книги о Баварии», но постепенно он въелся в эту задачу – оживить Крюгера и его процесс. Все человеческие судьбы были призваны содействовать поднятию рода на высшую ступень. Но избраны были лишь те, которые заставляли других вновь переживать их, сохранять для следующих поколений. Была ли судьба человека плодотворна для всего рода – зависело не от ее величия или значения и не от ее носителя, а от созерцающего ее, воплощающего ее художника. С той минуты, как судьба Мартина Крюгера начала завладевать Жаком Тюверленом, мученичество этого человека приобрело смысл, приобрели смысл и лишения самого Жака и Иоганны. Тюверлен ощущал потребность художественно воплотить Мартина Крюгера.
То, что он случайно хорошо знал жизнь Мартина Крюгера и тесно был связан с ней, – не оказывало ему здесь существенной помощи. Вовсе не важно было, каковы были Мартин Крюгер и его процесс в действительности, да и существовали ли они в действительности. Разве имело значение, жил ли на самом деле Иисус из Назарета? Существовал его образ, и только через него была создана правда. Нужно было, чтобы Жак Тюверлен пережил такой образ Мартина Крюгера, который он мог заставить людей воспринимать как настоящий.
Все отчетливее чувствовал он, как силы для этой задачи он черпает в гневе Иоганны. Ее намерения таинственно переплетались с его собственными. Ее мрачное возмущение вливалось в его творчество, зарождая в нем жизнь. Его книгу питало стремление Иоганны зажечь в людях интерес к мертвому Мартину Крюгеру. Иногда ему казалось, что стоит ей ослабеть – и тогда ослабеет и он.
В конце октября этого года он получил письмо от Каспара Прекля из Нижнего Новгорода. Каспар Прекль все это время хранил молчание. Он и теперь мало писал о себе. Зато подробно описывал, как отыскал картину «Иосиф и его братья». Она висела в музее небольшого города на границе Европейской и Азиатской России. Она называлась теперь только «Справедливость». Первое ее название было зачеркнуто. Когда Каспар Прекль осматривал картину, перед ней как раз стояла группа школьников, целый класс мальчиков и девочек в возрасте около четырнадцати лет. После того как этим молодым людям было объяснено содержание картины, – ведь им ничего не было известно об истории Иосифа, – они еще долго и серьезно дебатировали вопрос, в какой мере художник, написавший эту картину, проникнут духом коллективизма и в какой мере он еще связан с индивидуалистическими воззрениями буржуазной эпохи.
Жаку Тюверлену в процессе его новой работы мучительно не хватало споров с его прежним горячим собеседником. Его обрадовало, что именно в этот период его работы Прекль так конкретно и насмешливо напомнил ему о художнике Ландгольцере и о картине «Справедливость». Оживленный, забегал он взад и вперед перед Анни Лехнер. Достал третий том «Капитала» Карла Маркса, который миллионами людей почитался как книга книг. Вместо отсутствующего Каспара Прекля он затеял спор с Анни Лехнер. Торжествующе, словно боксируя с Каспаром Преклем, выпалил он перед ней слова Карла Маркса о том, что надо изображать «окаменелые порядки» немецкого общества и заставить их плясать, «напевая им их собственные мелодии», о том, что «надо заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу ».[77] В конце концов, словно это могло послужить решительным опровержением письма, он отыскал ту открытку, которую когда-то во время спора с Каспаром Преклем написал самому себе. «Дорогой господин Жак Тюверлен, никогда не забывайте, что вы существуете только для того, чтобы выражать самого себя. С искренним уважением ваш самый преданный друг Жак Тюверлен». Осыпая теории Каспара Прекля отборнейшими ругательствами, он прикрепил открытку к стене над пишущей машинкой. Затем с искренним интересом стал расспрашивать Анни Лехнер о том, что Каспар Прекль пишет о своей жизни.
Под влиянием ли письма Каспара Прекля или благодаря общению с Иоганной, но в «Книге о Баварии» зазвучала новая нота: возмущение против юстиции того времени. В те годы везде, на всем земном шаре, говорили о кризисе доверия к юстиции. Понятие справедливости стало шатким, износилось. Слишком много было известно о человеческой душе, чтобы считаться со старыми представлениями о добре и зле, слишком мало – чтобы создать на их месте новые. В прежние эпохи во время казни зрители, а часто даже и сам казнимый, чувствовали удовлетворение, ибо совершалось это во имя правового порядка, с которым каждый сознавал себя внутренне связанным. Сейчас правосудие не опиралось ни на какое живое существо, оно стало простым орудием власти и ее защиты, его меры производили впечатление слабости и произвольности. Возможно, что в Баварии правосудие вершилось с особой злостностью или пристрастием, но немногим лучше было и повсюду. Тюверлен до сих пор воспринимал этот факт с философским, фаталистическим скептицизмом. Сейчас его скептицизм начал принимать форму гнева, стал творчески активен. Несправедливость здесь, в Баварии, была ему яснее, он видел ее собственными глазами, он болезненно ощущал ее благодаря Иоганне. Если он хотел воплотить Баварию, то вынужден был вместе с ней воплотить и баварские беззакония. На обложке рукописи Анни Лехнер аккуратно вывела: «Книга о Баварии». Он добавил: «или Ярмарка справедливости».