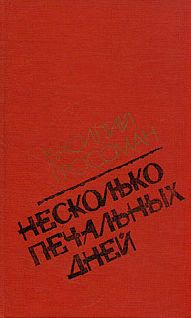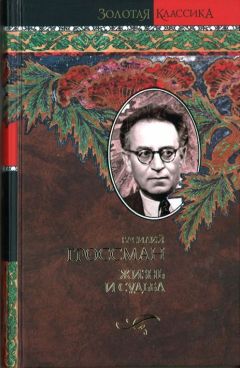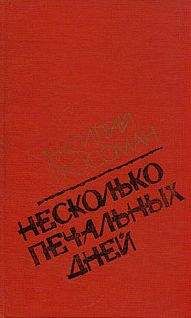– Работу? Нет, сейчас я об этом не думаю.
И он обрадовался, что его подозрение не оправдалось. Ведь десятки людей ежедневно говорили с ним: они звонили по телефону, писали письма, приезжали из дальних уральских городов, где были заводы и объединения. Все это было важно и нужно, но никто из приходивших не интересовался Петей Кондрашовым, а вот товарищ Кондрашов, председатель объединения, был предметом жгучего интереса для сотен людей.
Обо всем этом, прощаясь, Кондрашов сказал Анне Сергеевне, и она порадовалась своей женской чуткости. Они условились снова встретиться в ближайшие дни. Он крепко, как мужчине, пожал ей руку, вздохнул и ушел.
Анна Сергеевна стояла у окна и видела, как большой автомобиль с собакой на радиаторе загудел и поехал к заставе.
Анна Сергеевна вынула из шкафа галстуки и разгладила их.
– Андрюшечка, – убежденно сказала она и закрыла глаза.
«В конце концов, можно будет поговорить с Бобкой Орловым, – подумала она, – завтра же сделаю это».
Потом пришла Марья, у нее на лице было насмешливое, надменное выражение, так, по крайней мере, казалось Анне Сергеевне: «Ага, так вот для чего тебе понадобилась домработница».
Вечером Анна Сергеевна рассказывала мужу про посещение Кондрашова.
Андрей Вениаминович отнесся к воскрешению убитого весьма равнодушно, но вдруг оживился и пробормотал:
– Позволь, позволь, Кондрашов, ты говоришь? Ну, конечно, это из объединения.
После этого он сказал:
– Ого-го, с такой птицей очень не вредно иметь личное знакомство!
Анна Сергеевна подумала: «Как он знает людей!» – и начала объяснять, какой необычайный человек Кондрашов и почему она его ни о чем не просила и впредь постарается не просить.
Андрей Вениаминович внимательно посмотрел на жену, а когда она, смутившись, но стараясь быть искренней, заговорила об одиночестве Кондрашова, Андрей Вениаминович начал стучать ногой, усмехнулся и сказал:
– Своеобразно начинается твоя трудовая жизнь, очень своеобразно.
Скандал начался из-за пустяка. На кухню заглянула Анна Сергеевна и сказала Марье:
– Нужно торопиться с обедом, у нас сегодня гости.
– Ишь, подумаешь, мадам, – пробормотала Дмитриевна, стоявшая возле отлива.
Потом Дмитриевна подошла к плите и увидела, что ее чугун сдвинут с большого огня, а на его месте стоит алюминиевая бородаевская кастрюля. В гневе она закричала:
– Ты что это командуешь, кто тебе разрешил?
Марья, не глядя на Дмитриевну, помешивала деревянной ложкой в кастрюле.
– Не отвечаешь? – закричала Дмитриевна. – Да я на вас плевать хотела, на тебя и на твою Бородаиху.
На шум прибежала из комнаты Вера.
– Что вы орете, мама? – спросила она у свекрови. – Вы ребенка разбудите. Просто выдержать нельзя. Хоть бы скорей мой отпуск кончился!
Но, узнав, из-за чего кричала Дмитриевна, Вера обрушилась на Марью.
– Да ты знаешь, – кричала она, – мой Стрелков лучший ударник на заводе! Ему обедать не нужно? А? Ты как думаешь? Да ты знаешь, что за Григория Стрелкова наш директор десять Бородаевых отдаст.
– Пад-ума-ешь, инженер, – выговаривала Дмитриевна, – это ты ему ботинки чистишь да пальто выбиваешь. Да наш Гриша побольше твоего инженера зарабатывает.
– Подлиза буржуазная! – говорила Вера.– Ты разве знаешь, что такое производство?
Они обе наперебой ругали Марью. Кроме них, на кухне никого не было, остальной народ работал. Только маленький Вова стоял у двери и, полуоткрыв большой рот, смотрел на ругавшихся женщин.
Марья молчала, но когда Дмитриевна хотела сдвинуть алюминиевую кастрюлю с большого огня, Марья ударила Дмитриевну кулаком.
– Батюшки! – ахнула Дмитриевна, и сразу на кухне началась такая перепалка, что Вова удрал в комнату и запер дверь на крючок, а Анна Сергеевна крепко закрыла уши руками и вслух говорила:
– Господи, что за ужас!
Вечером Дмитриевна с лицом человека, избегнувшего смерти, шепотом рассказывала:
– Четвертый год живем, никто худого слова не сказал, а чуть эта холуйка приехала – скандал за скандалом.
– Да это безобразие, – горячилась Александра Петровна, – за такие вещи нужно беспощадно проучить, в нашем новом доме и вдруг… – И она объяснила Дмитриевне, что Марья находится во власти темной психологии.
Вера убеждала мужа пойти за комендантом, а он смотрел в книгу и отвечал:
– Да ну вас, никуда я не пойду. Обошлось – и ладно.
Вова рассказывал сестрам, жестикулируя и округляя
большие глаза:
– Они задрались, а я как испугался, заперся и думаю – никого не впущу, а самолет под кровать спрятал.
Сестры переглядывались и качали головами, а старшая, Клава, та, что рисовала по вечерам масляными красками и никогда не улыбалась, сказала:
– Ты, Вова, не обращай на эту дуру внимания.
– Да, не обращай, – сердито сказал Вова, – вам хорошо на заводе, а я так переволновался…
Все осудили Марью и очень удивились, когда пришедшая позже других Ильинишна, выслушав историю, спросила Дмитриевну:
– А морду она тебе набила? Нет? Жалко!
– Да коснись она, я б ей…
Вдруг Крюков поднял палец и зашипел: из комнаты Бородаевых слышались громкие голоса.
– Нервничает, переутомился, – сказал кто-то, и все захохотали.
Действительно, Андрей Вениаминович разнервничался.
– Что ты хочешь от меня, наконец! – говорил он. – Из-за этого дикого существа я себя чувствую дома, словно какой-то американский плантатор, рабовладелец! Зачем мне это? А? Нужно считаться с тем, что мы живем в рабочем доме. Для чего мне это? Изволите ли видеть, начинается новая жизнь Анны Сергеевны! – И он стукнул кулаком по столу так, что вилки и ложки враз подпрыгнули. – Какой-то бедлам! – крикнул он. – Я эту Марью сам выгоню к черту. Мне мое спокойствие дороже. – Потом он вдруг заговорил шепотом: – Новая жизнь, новая жизнь, до чего все это глупо! Какая-то Марья, скандалы, драки. Теперь я сижу после дня адской работы и не могу пообедать, жду, пока изволит прибыть товарищ Кондрашов. Вот это и есть новая жизнь?
– Ты сам просил тебя познакомить с Кондрашовым, поэтому я его пригласила к обеду, – тихо сказала Анна Сергеевна.
– Ты права, – насмешливо сказал Андрей Вениаминович, – но ответь мне, пожалуйста, на один вопрос: ты-то хотя бы довольна? Ты удовлетворена вот этой самой новой жизнью, великолепной творческой деятельностью, которой так добивалась?
– Андрюша, при чем тут новая жизнь? – с подчеркнутой кротостью сказала Анна Сергеевна. – Ты ведь знаешь, мне до сих пор не удалось устроиться на работу.
При других обстоятельствах Анна Сергеевна давно бы рассердилась на мужа, но сейчас она чувствовала себя виноватой перед ним. Против воли она уже в сотый раз глядела в окно и вздрагивала при каждом гудке автомобиля. Анну Сергеевну удивляло, что муж не видит ее волнения.
А его эта кротость жены, умевшей невинным голоском говорить невыносимые колкости при ссорах, раззадоривала все больше и больше.
– Довольно, – наконец сказал он, – хватит с нас новой жизни. Сегодня же объяви Марье: я ее увольняю. Две недели, полагающиеся по закону, придется потерпеть… – Он на мгновение задумался и сказал: – Третьего, четвертого, да – пятого апреля она отсюда уйдет.
Анна Сергеевна сказала:
– Хорошо, Андрюша, пятого апреля она уйдет.
Потом в комнату вошла злополучная Марья – Анна
Сергеевна посылала ее в магазин за кахетинским вином. Андрей Вениаминович фыркнул, застучал ногой.
Пожалуй, Марья, единственная из всех обитателей квартиры, была спокойна после происшествия. Имела ли она большой опыт кухонных боев, обладала ли крепкими нервами, но так же спокойно и быстро, как обычно, она занималась стряпней, молчаливая и деловитая.
– Марья, откройте дверь, к нам приехали, – сказала Анна Сергеевна.
Марья пошла к двери, и, увидя ее, шмыгнул в кухню Вова, прижимая к животу деревянный автобус.
– Дома Анна Сергеевна? – спросил Кондрашов.
Широко улыбаясь, вышел к нему навстречу Андрей
Вениаминович и немного громче, чем следовало, сказал:
– А-а, товарищ Кондрашов, прошу, прошу.
Он сразу же забыл о ссоре с женой и, коснувшись ладонью ее спины, шепнул:
– Аннушка!
Анна Сергеевна жалобно вздохнула, – она чувствовала, что вот-вот расплачется, до того ей было жалко Андрюшу теперь за его хорошее настроение, так же как пятнадцать минут назад она жалела мужа за его сварливость.
– Марья, будьте любезны принести из ванной водку, – сказал Андрей Вениаминович и добавил: – Не терплю теплой водки.
– Да, теплая водка… – сказал Кондрашов, глядя на Анну Сергеевну.
«Господи, – подумала Анна Сергеевна, – мрачен, смущен, сколько в нем непосредственности».