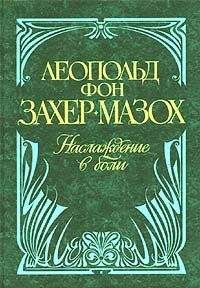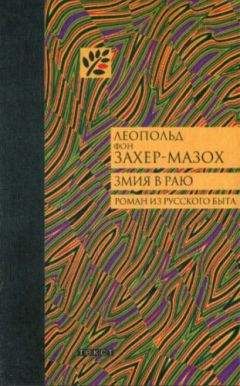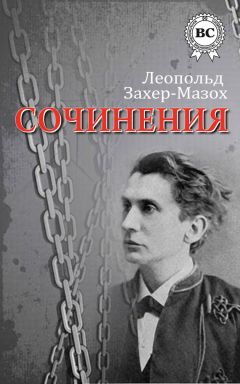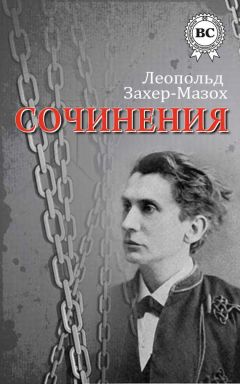О, как я страстно томлюсь по удару от ее руки!
Меня душат слезы. Я чувствую, как глубоко она унизила меня,– так глубоко, что теперь у нее уже даже нет желания мучить меня, унижать, оскорблять меня.
Прежде чем она ложится спать, ее звонок призывал меня.
– Сегодня ты будешь ночевать здесь, в комнате. В прошлую ночь я видела ужасные сны, сегодня я боюсь остаться одна. Возьми себе подушку с оттоманки и ложись на медвежьей шкуре у моих ног.
Проговорив это, Ванда тушит свечи, так что комната остается освещенной только маленьким фонариком с потолка.
– Не шевелись, не то разбудишь меня.
Я сделал все, что она приказала, но долго не мог уснуть. Я видел красавицу – прекрасную, как богиня! – закутанную в темный мех ночного халата, лежавшую на спине, с запрокинутыми за голову руками, утопающими в массе рыжих волос. Я слышал, как вздымалась ее дивная грудь от глубокого ритмического дыхания,– и каждый раз, едва она пошелохнется, я неслышно вскакивал, прислушиваясь, выжидая, не буду ли я нужен ей.
Но я ей не был нужен.
Вся моя роль, все мое значение для нее сводились к тому, чтобы служить ей свечою впотьмах или револьвером, который кладут под подушку для безопасности.
* * *
Что это? Не помешался ли я – или это она помешалась? Что это – легкомысленный каприз изобретательного женского ума или эта женщина действительно одна из тех нероновских натур, которые находят дьявольское наслаждение в том, чтобы бросить, как червя, себе под ноги человека, мыслящего, чувствующего и обладающего волей так же, как и они сами?..
Что я пережил!
Когда я склонился на колени перед ее постелью с подносом кофе в руках, Ванда вдруг положила руку мне на плечо и глубоко-глубоко заглянула мне в глаза.
– Какие у тебя дивные глаза! – тихо сказала она. – Как они похорошели с тех пор, как ты страдаешь! Ты очень несчастлив?
Я опустил голову и продолжал молчать.
– Северин! Любишь ли ты меня еще?! – страстно воскликнула она вдруг. – Можешь ли ты еще любить меня? – И она привлекла меня к себе с такой силой, что поднос опрокинулся, чашки и все остальное попадали на пол, кофе потек по ковру.
– Ванда моя… Ванда!..– крикнул я, как безумный, стиснул ее в объятьях и осыпал поцелуями ее губы, лицо и грудь.– В этом-то и горе мое, что я люблю тебя все больше, все безумнее, чем больше ты меня мучишь, чем чаще ты мне изменяешь! О, я умру от муки, от любви и ревности!..
– Но я еще совсем тебе не изменила, Северин, – улыбаясь, возразила Ванда.
– Не изменила? Ванда! Ради Бога… не шути со мной так бессердечно! Ведь я же сам носил письмо к князю…
– Ну, да, – с приглашением на завтрак.
– С тех пор как мы во Флоренции, ты…
– …сохранила безусловную верность тебе, – закончила Ванда. – Клянусь тебе в этом всем, что для меня свято! Я делала все только для того, чтоб исполнить твою фантазию, – только для тебя!
Но поклонником я все же обзаведусь, иначе дело не будет! доведено до конца и ты, в конце концов, будешь упрекать меня в том, что я недостаточно жестока к тебе. Дорогой мой, прекрасный мой раб! Но сегодня ты должен быть снова Северином, быть только моим возлюбленным!
Я не раздала твоих платьев, они все там, в сундуке, вынь их, оденься во все то, что ты носил там, в маленьком! карпатском курорте, где мы так искренно любили друш друга. Забудь все, что произошло с тех пор… о, ты легко! забудешь все в моих объятьях, я прогоню поцелуями всю твою печаль…
И она нежно поглаживала меня, как ребенка, целовала, ласкала… потом сказала с прелестной улыбкой:
– Оденься же. Я тоже буду одеваться. Надеть мне меховую кофточку, хочешь? Что да, я знаю сама… Иди же!
Когда я вернулся, она стояла посреди комнаты в своем белом атласном платье, в красной, опушенной горностаем кацавейке, с напудренными волосами и маленькой бриллиантовой диадемой над лбом.
В первое мгновение она напомнила мне Екатерину II, и мне стало не по себе, но она не дала мне времени задуматься – она привлекла меня к себе на оттоманку, и мы провели два блаженных часа. Теперь это была не строгая, своенравная повелительница, а только изящная дама, нежная возлюбленная.
Она показывала мне фотографии, вышедшие за последнее время книги и говорила со мной о них так умно, так интересно, так восхищала меня своим вкусом, что я не раз в восторге: подносил к губам ее руку. Затем она прочла мне несколько стихотворений Лермонтова, и когда у меня совсем закружилась голова, она с нежной лаской положила свою ручку на мою руку – во всем лице ее, добром и ласковом, в кротком выражении глаз светилось тихое удовольствие – и спросила:
– Счастлив ты?
– Нет еще…
Она откинулась на подушки оттоманки и начала медленно расстегивать кацавейку.
Но я быстро снова прикрыл горностаем ее полуобнаженную грудь.
– Ты меня с ума сводишь… – пробормотал я, запинаясь.
– Поди же ко мне.
Я лежал уже в ее объятьях, она целовала меня, как змея… Вдруг она еще раз прошептала:
– Счастлив ты?
– Бесконечно! – воскликнул я.
Она засмеялась. Это был резкий, злой смех, от которого меня дрожь пронизала.
– Прежде ты мечтал быть рабом, игрушкой красивой женщины, теперь ты воображаешь себя свободным человеком, мужчиной, моим возлюбленным… Глупец! Мне стоит бровью повести – и ты снова мой раб. На колени!
Я сполз с оттоманки к ее ногам, – глаза мои, еще с сомнением, впились в ее глаза.
– Ты не можешь этого понять, – сказала она, глядя на меня со скрещенными на груди руками. – Я томлюсь от скуки, а ты так добр, что соглашаешься доставлять мне несколько часов развлечения. Не смотри на меня так…
Она толкнула меня ногой.
– Ты можешь быть всем, чем я захочу, – человеком, вещью, животным…
Она позвонила. Вошли негритянки.
– Свяжите ему руки за спиной.
Я остался на коленях и не противился. Затем они повели меня со связанными руками через весь сад до маленького виноградника, примыкавшего к нему с юга. Между рядами лоз виднелся маис, там и сям торчали еще редкие засохшие прутья. В стороне стоял плуг.
Негритянки привязали меня к шесту и забавлялись тем, что кололи меня своими золотыми булавками, вынутыми из волос, прошло, однако, немного времени,– пришла Ванда в горностаевой шапочке на голове, заложив руки в карманы кофточки; она велела развязать меня, прикрутить мне руки за спину, надеть мне на шею ярмо и запрячь меня в плуг.
Затем ее черные ведьмы погнали меня на поле – одна из них вела плуг, другая правила мной с помощью веревки, третья погоняла меня хлыстом… Венера в мехах стояла в стороне и смотрела.
* * *
Когда я на другой день подавал ей обед, она сказала:
– Принеси еще прибор, я хочу, чтобы ты сегодня обедал со мной.
Когда я хотел сесть против нее, она сказала:
– Нет, садись поближе ко мне – совсем близко.
Она в наилучшем настроении дает мне суп из своей тарелки, своей ложкой, кормит меня своей вилкой, ложится головкой, как шаловливый котенок, на стол и кокетничает со мной.
По несчастной случайности я засмотрелся на Гайдэ, подававшую мне блюда, дольше, чем это, быть может, нужно было: как-то вдруг в эту минуту я в первый раз обратил внимание на благородный, почти европейский склад лица, на прекрасный бюст, как у статуи, изваянной из черного мрамора.
Хорошенький чертенок замечает, что нравится мне, поблескивает, улыбаясь, белыми зубами. Едва она вышла из комнаты, Ванда вскочила, вся пылая гневом.
– Что! Ты смеешь смотреть при мне так на другую женщину Она нравится тебе, очевидно, больше, чем я, – она еще демоничнее…
Я испугался – такой я еще никогда ее не видел! Она вмиг побледнела вся, так что даже губы побелели, и дрожала всел телом – Венера в мехах ревнует своего раба.
Она сорвала с гвоздя хлыст и ударила меня им по лицу, потол позвала своих черных прислужниц, приказала им связать меня и потащить в погреб, где они бросили меня в темную, сырую подземную комнату – настоящую темницу.
Затем дверь захлопнулась, был задвинут засов, щелкнул запор.
Я заточен, погребен.
* * *
И вот я лежу – не знаю, сколько времени, – связанный, словно теленок, которого ведут на убой, на охапке влажной соломы – без света, без пищи, без сна. Она способна оставить меня умереть голодной смертью – и оставит, если я еще раньше не замерзну. Меня всего трясет от холода. Или, быть может, это лихорадочный озноб? Мне кажется, я начинаю ненавидеть эту женщину.
* * *
Красная полоса, как кровь, протянулась на полу. Это свет свечи сквозь дверную щель. Вот и дверь отворилась.
На пороге показывается Ванда, закутанная в свои собольи меха, и освещает факелом мое подземелье.
– Ты еще жив? – спрашивает она.
– Ты пришла убить меня? – отвечаю я слабым, хриплым голосом.
Ванда стремительно делает два шага, подходит ко мне, опускается перед моим ложем на колени и кладет на колени мою голову.