— С завтрашнего дня, — проговорил Франческо слабым голосом, обращаясь к брату, — я уже не усну.
Он вынес себе смертный приговор. Валерио все понял и припал головой к груди брата. Горькие слезы, которые он до сих пор мужественно сдерживал, жгучими потоками полились по его бледным, впалым щекам.
Инквизиция обладала такой таинственной, такой неограниченной властью, было так опасно пытаться проникнуть в ее тайны, да и сделать это было так трудно, что спустя три дня после праздника святого Марка уже никто больше не говорил о Дзуккато. Слух об аресте Франческо быстро распространился, но растаял, как волна на пустынном и безмолвном песчаном берегу. И невысокий утес отбросил бы ее и вспенил, но песчаный берег, издавна сглаженный и опустошенный бурями, спокойно принимает волну, и силы оставляют ее, ибо нет там для нее пищи: такова была и Венеция. Тревожное возбуждение и естественное любопытство жителей стихали, как бессильная пенистая волна, разбившаяся о ступени Дворца дожей, где мрачные воды, омывавшие стены подземелья, ежечасно уносили кровь неизвестных мучеников, заточенных в глубоких недрах застенков.
Кроме того, чума внесла во все души смятение и уныние. Работы приостановились, мастерские закрылись. Марини заболел чумой одним из первых и медленно выздоравливал. Чеккато потерял ребенка и ухаживал за умирающей женой. Ярость Бьянкини потускнела перед ужасом смерти. Боцца исчез.
Старик Себастьяно Дзуккато удалился в деревню в день праздника святого Марка, сразу после окончания игрищ, в самом дурном расположении духа из-за того, что он называл сумасбродством и лжеславой своих сыновей. Он ничего не знал о беде и негодовал, не видя их, — ведь они обыкновенно смягчали его гнев своей почтительной предупредительностью.
Чума немного поутихла, и тут старый Дзуккато вдруг испугался за жизнь сыновей. Приехав в Венецию, старик по-прежнему намеревался строго отчитать их, хотя был глубоко встревожен. Он понял, что не любить сыновей не может, и эта мысль его особенно раздражала. Однако не следует думать, что после сцены в соборе Себастьяно примирился с искусством мозаики. Он по-прежнему не терпел это «ремесло» и всех его приверженцев. Хоть он невольно и был захвачен той силой очарования, которая исходит от великих творений, покоряя артистические души, хоть он и прижимал сыновей к груди и проливал слезы умиления, он вовсе не отрешился от своего предубеждения — о превосходстве некоторых отраслей искусства. Если бы он даже захотел, он был бы не в силах на пороге смерти отказаться от понятий, которые упрямо пронес через всю жизнь. Его утешала лишь надежда, что, настанет время, Франческо откажется от низкого ремесла и вернется к мольберту. И вот, решив обратить его на путь истинный, старик пришел в базилику: он думал, что сын приступил к мозаике другого купола. Но базилика была обтянута черной тканью, похоронное пение гулко раздавалось под темными сводами; пламя свечей боролось с последними лучами заходящего солнца и бросало какой-то бледный, красноватый отблеск; и он был страшнее мрака. Воздавали последние почести двум сенаторам, умершим от чумы. Помост с гробами стоял под портиком, священники с явным ужасом торопливо совершали церковный обряд. Старик Дзуккато вздрогнул, увидев два гроба. Но вот он узнал имена умерших и успокоился. Он тотчас же вышел из церкви и опрометью бросился в мастерскую Валерио в Сан-Филиппо. Но там ему сказали, что ни Франческо, ни Валерио не появлялись со дня праздника святого Марка, и старик стал тщетно искать их повсюду, где они обыкновенно бывали. Наконец, измученный тревогой, он разыскал Чеккато. Выслушав мрачные предположения художника, убитого горем, старик подумал, что его сыновья умерли под «Свинцовыми кровлями» от тоски и болезни. Несколько минут он простоял неподвижно, поглощенный своими мыслями, смертельно побледнев. Наконец он на что-то решился и, не сказав ни слова Чеккато и его безутешной семье, отправился к прокуратору-казначею. Он и не собирался обвинять вельможу в беззаконном аресте его сыновей. Старик был покладист по натуре и считал, что подозревать в ошибке или предубеждении должностное лицо — значит не уважать закона. Он был недоволен сыновьями, готов был обвинить их и в лени и в том, что они заносчиво отвечали прокуратору, но хотел любой ценой узнать, что с ними стало. Итак, он смиренно подошел к толстяку прокуратору-казначею, который только и думал, как уберечься от чумы, и сейчас особенно был занят собственной особой. Его окружали пузырьки и всяческие благовония, очищающие воздух, которым он дышал. Старик поклонился ему с такой учтивостью, что Мелькиоре принял его, против обыкновения, довольно снисходительно.
— Довольно, довольно, — сказал он, прикрывая нос большим платком, пропитанным соком можжевельника, и знаком приказывая Дзуккато держаться поодаль. — Ни шагу дальше, милейший! Не подходите так близко и задерживайте дыхание! Клянусь колпаком дожа, проклятые времена — не знаешь, с кем разговариваешь. А не больны ли вы? Ну-ну, что там у вас?
— Ваша высокочтимая милость, — отвечал старик, втайне несколько уязвленный таким бесцеремонным приемом, — вы видите перед собой старосту цеха художников, мастера Себастьяно Дзуккато, своего смиренного раба, отца…
— A-а, узнаю, — подхватил Мелькиоре, не двигаясь и делая только вид, будто хочет поднести дряблую руку к черной шелковой скуфейке, надвинутой на его приплюснутый, оплывший жиром затылок. — Утешительного мало, мессер Дзуккато. Вы человек честный, а вот сыновья у вас неслыханные мошенники.
— Ваша милость! Это чересчур, хотя я не отрицаю, что сыновья мои порядочные сорванцы, очень легкомысленны, очень упрямы и заняты пустым, никчемным делом. Я знаю, они навлекли на себя немилость господ магистров и вашу в особенности. Я уверен, что они совершили какую-то серьезную ошибку, ибо ваше доброе отношение к ним сменилось строгостью. И я пришел не оправдывать их, но постараться смягчить вашу суровость и просить о милосердии. Прошу вас принять во внимание, что воздух заражен, стоит непогода, у моего старшего слабое здоровье — пребывание в тюрьме так пагубно отразится на нем, что сын мой навсегда запомнит наказание и исправится.
— Ваш сын действительно болен, как мне говорили, — возразил прокуратор. — Но кто же не подвержен заразе! Я сам чувствую себя прескверно, и, если б не заботы моего лекаря, я бы погиб. Но необходимо беречься, очень беречься! Клянусь колпаком дожа! Я советую вам, господин Себастьяно, тоже беречься.
— Ваша милость изволили сказать, что сын мой Франческо болен? — перебил его испуганный Себастьяно.
— О, пусть это вас не тревожит: в тюрьме больных не больше, чем повсюду. Нам известно по точным подсчетам, что под «Свинцовыми кровлями» узников умирает не больше, чем в других тюрьмах республики.
— Под «Свинцовыми кровлями», ваша милость? — воскликнул старик. — Ваша светлость сказали — под «Свинцовыми кровлями»? Неужели мои сыновья там?
— Клянусь колпаком, да, там, и они не заслуживают меньшего за воровство и все свои жульнические проделки.
— Бог ты мой! Монсеньер, вы просто решили меня припугнуть! — произнес старик Дзуккато твердым голосом, отступая на шаг. — Быть не может, что мои сыновья — узники «Свинцовых кровель».
— Они именно там, повторяю, — отвечал прокуратор, — и я не выпущу их оттуда, пока не закончится расследование и не произойдет суд. Ими займутся, как только моровая язва утихнет. Но, клянусь колпаком дожа, боюсь, что им грозит участь похуже, ибо они преступники: расхищение общественной казны карается пожизненной ссылкой.
— Что за дьявольщина! — крикнул старик, приблизившись к прокуратору. — Знайте же, мессер, те, кто это говорит, лгут, а те, кто упрятал моих сыновей под «Свинцовые кровли», поплатятся! Я этого не оставлю, пока есть во мне хоть капля сил!
— Не приближайтесь! — завопил Мелькиоре, суетливо поднимаясь и отодвигая кресло. — Не дышите мне в лицо. Если вы заражены чумой, держите ее при себе и убирайтесь ко всем чертям со своими плутами сыновьями. Знайте — их повесят, если вы вмешаетесь, подняв вокруг их дела шум. Честное слово, все эти Дзуккато — неслыханные злодеи! Вы заражаете воздух, сударь! Вон отсюда!
Говоря это, Мелькиоре пятился назад, а старик Дзуккато, неподвижно стоя на месте, смотрел на него таким взглядом, что тот леденел от ужаса.
— Была бы у меня чума, — ответил старик с угрожающим видом, — я бы сжал в объятиях всех, кто говорит, что мои сыновья — воры. Надеюсь, эта мысль никогда никому не приходила в голову и что должностное лицо, с которым я имею честь разговаривать, сам болен и вне себя от нынешнего бедствия. Да, да, монсеньер, чума заставляет вас говорить, что Дзуккато расхищают общественную казну. Знайте же: Дзуккато — благородного рода, в их жилах течет кровь чище, чем та, что течет в жилах родственников дожа. Знайте, Франческо и Валерио можно погубить пытками, но обесчестить их нельзя. Ваша светлость хорошо сделает, если вызовет своего врача, ибо тлетворный яд распространился по его венам.
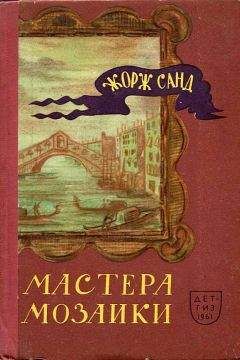
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)



