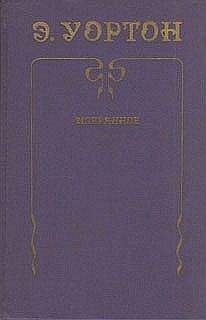Безусловно, рассуждала про себя миссис Слейд, она куда острее, чем бедняжка Грейс, ощущает свою ненужность. Сделаться из жены Делфина Слейда его вдовой равносильно полному краху. Когда-то она (не без супружеской гордости) считала, что по части светских талантов не уступает мужу и не меньше чем он способствовала их превращению в столь незаурядную пару, но его смерть все непоправимо изменила. На жену крупного юриста, который вел одновременно не меньше двух-трех дел международного масштаба, каждый новый день налагал ряд неожиданных и увлекательных обязанностей: принимать экспромтом его выдающихся коллег из-за границы, срываться с места в связи с участием мужа в процессах и лететь в Париж, Лондон, Рим, где их в свою очередеь прекрасно принимали; а до чего приятно было слышать у себя за спиной: «Как, эта интересная женщина, прекрасно одетая, с прекрасными глазами, миссис Слейд — жена того самого Слейда? Обычно жены знаменитостей — безвкусные мегеры».
Да, очень тоскливо потом оказаться вдовой «того самого» Слейда. Чтобы быть достойной такого мужа, приходилось напрягать все способности, а теперь ей некого быть достойной, кроме дочери, поскольку сын, унаследовавший, судя по всему, одаренность отца, внезапно умер в отрочестве. Если она не сошла с ума от отчаяния, то потому, что рядом был муж, которому надо было помочь и который помогал ей. После смерти отца мысль о мальчике стала непереносима. Единственное, что ей оставалось, — это опекать дочь, но ее милая Дженни была идеальной дочерью и в чрезмерной опеке не нуждалась. «Вот будь я матерью Бэбс, вряд ли я спала бы так спокойно», — думала иногда не без зависти миссис Слейд; но Дженни, которая была младше своей блестящей подружки, являлась редким исключением: ее молодость и красота — а она была прехорошенькой — казались почему-то такими же неопасными, как и их отсутствие. Это иногда ставило в тупик… и отчасти раздражало миссис Слейд. Лучше бы уж Дженни влюбилась, пусть даже в кого-нибудь неподходящего, — и тогда понадобилось бы охранять ее, стараться перехитрить, насильно спасать. А вместо этого Дженни охраняла свою маму от сквозняков и проверяла, приняла ли она вовремя лекарство.
Миссис Энсли не отличалась таким красноречием, как ее приятельница, и потому психологический портрет миссис Слейд был менее обстоятелен, написан более легкими штрихами: «Элида Слейд блестяща, но не так блестяща, как ей кажется», — подвела бы она итог, однако сразу же добавила бы для сведения тех, кто не знал, что в юности миссис Слейд пользовалась «бешеным» успехом, куда большим, чем ее дочь, которая красива, конечно, и по-своему умна, но ей бы хоть немножко материнского, ну что ли, «темперамента», как кто-то в свое время назвал это. Миссис Энсли охотно подхватывала такого рода словечки и приводила их, взяв в кавычки, как неслыханную вольность. Нет, Дженни ничем не напоминала свою мать. Иногда миссис Энсли казалось, что Элида Слейд этим разочарована. В общем, невеселая была у нее жизнь, полная ошибок и неудач. Миссис Энсли всегда склонна была жалеть ее…
Так, смотря не с того конца в свой крошечный телескоп, дамы представляли себе друг друга.
Они долго сидели рядом, не говоря ни слова, как будто, отказавшись на время перед лицом этого гигантского Memento Mori[44] от своих более или менее бесплодных усилий, отдыхали душой. Миссис Слейд сидела совершенно неподвижно, устремив взгляд на золотящийся Дворец цезарей;[45] вскоре и миссис Энсли оставила в покое свою сумочку и молча погрузилась в задумчивость. Как и многим близким приятельницам, им никогда не случалось, оставаясь вдвоем, молчать, и миссис Энсли была несколько смущена этой наступившей после стольких лег новой фазой их близости и пока не совсем понимала, как себя при этом вести.
Внезапно воздух огласился густым звоном колоколов, который время от времени покрывает Рим гулким серебряным куполом. Миссис Слейд взглянула на свои часики.
— Уже пять часов, — сказала она, как бы удивившись.
— В посольстве в пять часов начинается бридж, — произнесла вопросительным тоном миссис Энсли.
Миссис Слейд долго не отвечала — была, как видно, поглощена своими мыслями, и миссис Энсли решила, что она не расслышала ее слов. Но немного погодя она, словно очнувшись, сказала:
— Бридж, говоришь? Только если тебе очень хочется. А меня, знаешь, что-то не тянет.
— Да нет, я вовсе не жажду, — поспешила заверить ее миссис Энсли. — Здесь так чудесно, и, как ты говоришь, столько встает воспоминаний.
Она села глубже в кресло и чуть ли не украдкой взялась за спицы. Миссис Слейд невольно подметила этот маневр, но ее собственные холеные руки лежали на коленях все так же неподвижно.
— А я вот думала о том, — сказала она медленно, — какие разные вещи знаменует Рим для каждого поколения путешественников. Для наших бабушек это римская лихорадка, для наших матерей — романические опасности— как нас стерегли! — для наших дочерей не больше опасностей, чем в центре Нью-Йорка. Им этого не понять, но сколько они от этого потеряли!
Так долго сиявший золотыми лучами день начал меркнуть, и миссис Энсли поднесла вязанье чуть ближе к глазам.
— Да, как нас стерегли!
— Я всегда считала, — продолжала миссис Слейд, — что нашим матерям куда хуже пришлось, чем нашим бабушкам. Когда по улицам города незримо рыскала римская лихорадка, наверное, не составляло большого труда в опасные часы загнать девочек в дом. Но когда мы с тобой были молоды, и со всех сторон нас манила эта красота, и в нас уже зародился дух неповиновения, и в худшем случае нам грозило всего лишь простудиться в прохладные часы после заката, — нашим матерям нелегко было держать нас на привязи, правда?
Она снова повернулась к миссис Энсли, но у той наступил в вязании ответственный момент:
— Одна, две, три… две снимаем… да, вероятно, — согласилась она, не поднимая глаз.
Устремленный на нее взгляд миссис Слейд стал более пристальным: «И она способна перед лицом всего этого вязать! Как это на нее похоже…»
Занятая своими мыслями, миссис Слейд откинулась на спинку кресла, скользя взглядом по руинам, находившимся прямо напротив, по вытянутой зеленой впадине Форума, по догоравшим за ним в предзакатных отблесках фасадам церквей и по отдаленной громаде Колизея.[46] Вдруг она подумала: «Хорошо, конечно, рассуждать о том, что наши дочери покончили с сентиментами и лунным светом. Но если Бэбс Энсли не отправилась ловить молодого авиатора… того, который маркиз… тогда я ничего в этом не понимаю. И у моей Дженни рядом с ней нет никаких шансов. Это я тоже понимаю. Интересно, не потому ли Грейс Энсли любит, чтобы девочки всюду бывали вместе. Моя бедняжечка Дженни служит выигрышным фоном…»
Миссис Слейд еле слышно рассмеялась, миссис Энсли тем не менее от неожиданности выпустила из рук вязанье.
— Что?..
— Да нет, я так. Просто я подумала, что перед твоей Бэбс никто не может устоять. Этот юный Камполиери — один из самых завидных женихов Рима. Не смотри на меня с таким невинным видом, моя дорогая… ты прекрасно это знаешь. И я вот не могу понять при всем моем, разумеется, уважении к тебе и к Хорасу… не могу понять, каким образом двум столь примерным родителям удалось произвести на свет этакий магнит.
Миссис Слейд снова рассмеялась, — не без язвительности.
Руки миссис Энсли с перекрещенными спицами бездействовали. Она смотрела прямо перед собой на это грандиозное скопление обломков былых страстей и величия. Но ее миниатюрный профиль был почти лишен выражения. Наконец она сказала:
— По-моему, ты переоцениваешь Бэбс, моя дорогая.
— Нет, нисколько; просто я отдаю ей должное, — ответила миссис Слейд уже более приятным тоном. — И, возможно, завидую тебе. О, у меня идеальная дочь, и, будь я беспомощной калекой, я бы… да, вероятно, я бы предпочла попасть в руки к Дженни. Все может быть… и все же… Я всегда мечтала иметь блестящую дочь и никогда не могла понять, почему вместо этого мне достался ангел.
Миссис Энсли тихо рассмеялась вслед за своей приятельницей.
— Бэбс тоже ангел.
— Конечно, конечно! Но крылья у нее переливают всеми цветами радуги. Итак, они бродят по берегу моря со своими молодыми людьми, а мы вот сидим… От этого что-то слишком уж остро воскресает прошлое.
Миссис Энсли снова принялась вязать. Можно было бы вообразить (если не знать ее так хорошо), подумала миссис Слейд, что и в ней при виде удлиняющихся теней этих царственных руин пробуждаются воспоминания. Но какое там! Она просто поглощена своим вязаньем. Да и о чем ей тревожиться? Она знает, что Бэбс почти наверняка возвратится уже невестой этого чрезвычайно подходящего Камполиери. «И она продаст свой дом и обоснуется неподалеку от них в Риме и никогда не будет им в тягость… она слишком тактична. Но у нее будет и первоклассный повар, и всегда самое изысканное общество на бридже с коктейлями… и безмятежная старость среди внучат».