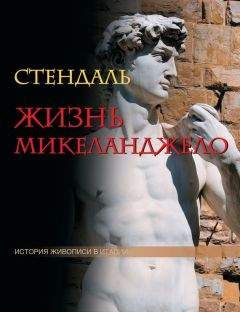— Но справедливы ли вы, когда так щедро наделяете враждебную партию какой-то особенной грубостью манер? Не можете же вы не знать, что сыновья Тальма[53] и дети небезызвестного нам герцога воспитываются в одном пансионе?
— Первую скрипку в салонах играют не друзья детей Тальма, а сорокалетние люди, разбогатевшие во время революции.
— Ручаюсь, что многим из наших друзей было бы полезно позаимствовать у них ума. Кто отличается особым глубокомыслием в палате пэров? Вы сами недавно сетовали на это.
— Если бы я все еще продолжал давать уроки логики моей очаровательной кузине, как бы я сейчас посмеялся над ней! При чем тут ум? Меня приводит в уныние не их ум, а манеры. Возьмите, например, наиглупейшего среди нас, господина ***: он может быть смешным, но никогда не заденет вашего достоинства. Я как-то рассказывал у д'Омалей о своей поездке в Лионкур и стал описывать машины, которые наш достойный герцог выписал из Манчестера. Вдруг некий господин, который слушал мой рассказ, заявил: «Это не так, это неправда!» Он, безусловно, не хотел назвать меня лжецом, но от его грубости я на час онемел.
— И этот человек банкир?
— Он не из нашего круга. Забавнее всего, что после этого я написал управляющему лионкурской фабрикой, и оказалось, что господин, обвинявший меня во лжи, сам ошибался.
— А я не нахожу, что у господина Монтанжа, молодого банкира, бывающего у госпожи де Кле, дурные манеры.
— Они у него слащавые, то есть опять-таки грубые, но из страха надевшие на себя личину.
— Жены этих людей очень хороши собой, — заметила Арманс. — Интересно знать, чувствуются ли в их разговорах злоба и болезненное самолюбие, которые так неприятно поражают меня в наших добрых знакомых. Как бы мне хотелось, чтобы справедливый судья вроде моего кузена рассказал мне, что происходит в салонах противной стороны! Когда жены банкиров болтают друг с дружкой в ложах Итальянской оперы, я умираю от желания послушать, о чем они говорят, и вмешаться в их беседу. Если я замечаю хорошенькую банкиршу — а ведь среди них попадаются прямо прелестные, — я умираю от желания обнять ее и расцеловать. Вам это кажется ребячеством, но скажите мне, господин философ, столь сильный в логике: возможно ли узнать людей, если все время вращаться в одном и том же кругу? Да еще в самом бездеятельном, потому что члены его очень далеки от житейских нужд.
— И к тому же еще полны аффектации, ибо им кажется, что они стоят в центре общего внимания. Согласитесь, что доставлять аргументы своему противнику вполне достойно философа, — смеясь, добавил Октав. — Поверите ли, маркиз де ***, еще на днях в этой самой гостиной утверждавший, что он презирает всякие «листки», даже названий которых он будто бы не знает, вчера у Сен-Имье был вне себя от восторга потому, что «Aurore»[54] напечатала гнусный пасквиль на врага маркиза, графа де ***, только что назначенного членом Государственного совета. Маркиз таскает этот номер с собой в кармане.
— В том-то и заключается наше несчастье, что когда глупцы лгут самым постыдным образом в нашем присутствии, мы их слушаем и не смеем сказать: «Прелестная маска, я тебя знаю!»
— Что поделаешь, самые остроумные шутки для нас под запретом: ведь о них могут узнать наши противники и всласть над нами посмеяться.
— Я могу судить о банкирах, — продолжала Арманс, — только по вашему приторному Монтанжу да еще по очаровательной комедии «Роман»[55], и все же я сомневаюсь, чтобы по части любви к деньгам они так уж превзошли кое-кого из наших. Право, это нелегкая задача — браться за исправление целого класса. Не стану повторять, что мне очень хотелось бы познакомиться с женами банкиров. Но, как говаривал старый герцог де ***, выписывая «Journal de L'Empire»[56] за баснословные деньги и с риском разгневать императора Александра: «Можно ли не читать обвинительных речей своего противника?»
— Здесь будет к месту реплика из «Полиевкта»[57], которую так замечательно произносит Тальма: «Я больше вам скажу, но это тайна, знайте!» Конечно, мы не согласились бы жить с этими людьми, но о многом мы судим, как они.
— Очень грустно в нашем возрасте решиться до конца жизни быть с теми, кто обречен на поражение, — сказала Арманс.
— Мы сейчас как жрецы-идолопоклонники во времена, когда уже близилась победа христианства: сегодня еще преследуем противников, в наших руках полиция и казна, но завтра, быть может, мы сами будем осуждены общественным мнением.
— Пожалуй, вы оказываете нам слишком много чести, сравнивая нас с достопочтенными жрецами: я лично считаю нашу с вами позицию куда более ложной. Мы не порываем с нашей партией только потому, что хотим разделить с ней ее поражение.
— К несчастью, вы правы. Мы видим глупость ее сторонников, но смеяться над ними не решаемся, а своими привилегиями тяготимся. Какое мне дело до древности моего рода? Я мог бы воспользоваться этим преимуществом, только если бы поступился своими убеждениями.
— Когда вы слушаете рассуждения молодых людей нашего круга, вам частенько хочется пожать плечами. Чтобы не поддаться этому желанию, вы спешите заговорить о прелестном альбоме мадмуазель де Кле или о голосе госпожи Паста. С другой стороны, ваш титул и, быть может, некоторая грубоватость людей, с которыми ваши мнения почти во всем совпадают, отталкивают вас от них.
— Как бы мне хотелось командовать артиллерийской батареей или быть механиком паровой машины! Как бы я был счастлив, если бы поступил работать химиком на мануфактуру! Поверьте, там меня нисколько не отталкивали бы грубые манеры: я привык бы к ним за одну неделю.
— Не говоря о том, что, возможно, они не так уж грубы, — добавила Арманс.
— Да будь они хоть в десять раз грубее, чем на самом деле, — продолжал Октав, — все равно в этом не меньше остроты, чем, скажем, в непринужденной болтовне на чужом языке. Но для этого нужно зваться Мартеном или Ленуаром.
— А не можете ли вы отыскать какого-нибудь здравомыслящего человека, который занялся бы изучением либеральных салонов?
— Кое-кто из моих приятелей бывает там на балах. Они утверждают, что мороженое в этих салонах подают восхитительное — вот и все. Когда-нибудь отважусь заглянуть туда и я: смешно же целый год думать об опасности, которой, может быть, вовсе и не существует.
В конце концов Арманс добилась от Октава признания, что он уже искал способ попасть в те круги общества, где преклоняются не перед знатностью, а перед богатством.
— И я нашел такой способ, — сказал Октав, — только лекарство будет еще неприятнее, чем болезнь, потому что оно обойдется мне в несколько месяцев жизни вдали от Парижа.
— Что же это за способ? — спросила Арманс, внезапно сделавшись серьезной.
— Я отправлюсь в Лондон и, естественно, побываю там у всех выдающихся людей. Можно ли приехать в Англию и не представиться маркизу Ленсдауну[58], мистеру Бруму[59], лорду Холленду[60]? Они начнут расспрашивать меня о наших знаменитостях, удивятся, что мне о них ничего не известно. Я выражу свое глубокое сожаление и, вернувшись домой, постараюсь познакомиться со всеми выдающимися французами. Если в салоне герцогини д'Анкр соизволят обсуждать мое поведение, его никак не смогут назвать изменой тем идеалам, которые невольно и неразрывно связаны с моим именем. Все поймут, что это поведение рождено естественным желанием узнать моих прославленных современников. Я никогда не прощу себе, что не удосужился встретиться с генералом Фуа[61].
Арманс молчала.
— Разве не унизительно, — продолжал Октав, — что все, кого мы считаем своей опорой, даже монархические писатели, которым поручено каждое утро восхвалять на страницах газеты добродетели духовенства и знати, принадлежат к классу, обладающему всеми добродетелями, кроме знатности.
— Если бы вас услышал господин де Субиран!
— Не дразните меня одним из самых больших моих несчастий — необходимостью непрерывно лгать...
При истинной близости между двумя людьми постоянные отступления в разговоре им только приятны, так как свидетельствуют о беспредельном доверии, но третьему лицу они легко могут наскучить. Нам просто хотелось показать, что блестящее положение, которое виконт де Маливер занял в обществе, отнюдь не было для него источником одних лишь радостей.
Не без опаски взяли мы на себя роль беспристрастного историка. Политика, вторгшаяся в столь бесхитростное повествование, может произвести впечатление пистолетного выстрела посреди концерта. К тому ж Октав не философ, и его характеристика двух партий, на которые делилось современное ему высшее общество, очень несправедлива. Как возмутительно, что Октав не способен рассуждать в тоне, подобающем пятидесятилетнему мудрецу![62]