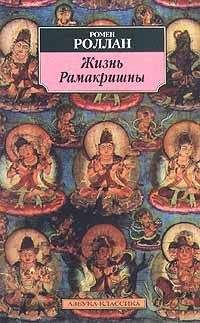И я не сдамся!"
«Она (это чрево) не сдалась, – продолжал он рассуждать. – А я что же, сдамся? Окажусь слабее женщины?»
Этот молодой самец считал себя бесконечно выше женщины... Но в глубоких, тщательно скрытых тайниках его души звучало неосознанное «Ave Mater... Fructus ventris...» <"Богородице Дево... Плод чрева" (лат.).>. Плод никогда не предает свое древо...
Но сейчас предавало древо...
Марк строгим взглядом следил за этой женщиной, за своей матерью, которая вернулась к нему с Востока и теперь странным образом менялась в атмосфере парижского брожения. Она казалась ему подозрительной. Она не так сильно возмущалась, как ему бы хотелось, этим миром, который стал для него личным врагом. Уж не принимала ли она этот мир? Он не умел читать в ее сердце. Но на губах ее, в глазах, во всем ее существе он обнаруживал какую-то беззаботность, деятельную, счастливую, безмятежную, не знающую никаких угрызений. А какие могли быть угрызения? Из-за чего? Уж не из-за этого ли мира, из-за горестей и позора этих людей, из-за того, что она сама во всем этом участвует? Это было бы к лицу ему, новичку, в этой безотрадной игре, в которой высасываешь всю горечь жизни, как будто вся эта горечь для тебя одного и приготовлена! А у нее было время привыкнуть к приятному или к неприятному вкусу: «Во всякой пище есть горечь. Но это не мешает есть! Есть-то надо! И я принимаю жизнь. Иного выбора у меня нет...»
Он тоже принимал жизнь. Но с раздражением, со злобой, с затаенным бешенством, И он не мог примириться с тем, что его мать приспособилась к ней так естественно и даже как будто находит в этом некое постыдное удовольствие. Но какое право он имел запрещать ей? Это право он сам себе тайно присвоил. Оно было выше прав сына. То было право мужчины. Женщина была его собственностью... Если бы он заявил ей об этом, она бы рассмеялась ему в лицо. Он это знал. Он знал, что она была бы права. И это бесило его еще больше.
Итак, претерпев многие испытания, Аннета снова оказалась ни при чем.
За поездку в Румынию она едва не заплатила слишком дорого, и на месте Аннеты всякая другая растеряла бы там добрую половину веры в себя и в жизнь. Но Аннета была женщиной иного склада. Веру она не рисковала потерять, ибо никогда не заботилась о том, чтобы создать себе какую-нибудь веру. "Верить? В кого? Во что? В себя? В жизнь? Какой вздор! Что я знаю обо всем этом? И что мне надо об этом знать?.. Строить на том, что еще впереди, значит начинать постройку с верхушки... Это к лицу мужчинам! А с меня хватит и земли. Я всегда найду, куда поставить ноги. Мои крепкие, большие ноги! Они всюду испытывают одинаковое удовольствие от ходьбы...
На ее здоровом организме не оставило никаких следов воспаление легких (последствие гриппа), которое она перенесла в Италии, по дороге домой.
Сильвия, хотя и была моложе ее, уже чувствовала свой возраст и не мирилась с ним, а окружающие чувствовали его еще сильней, ибо с годами ее характер не улучшался, – он становился все беспокойнее и несноснее. Она проводила ядовитые параллели; она как будто бы попрекала сестру ее моложавостью. Аннета говорила со смехом:
– Вот что значит начать слишком рано! Добродетель всегда бывает вознаграждена.
Сильвия ворчала:
– Хороша добродетель! И какой тебе толк от нее сейчас?
– А вот этого ты и не знаешь!..
Нет, от добродетели ей не было никакого толку. И от пороков тоже. Она действительно была до странности равнодушна и к добродетели и к пороку.
Когда ей случалось думать об этом, она испытывала что-то вроде стыда.
Она даже хотела бы пережить это, но, откровенно говоря, это ей не удавалось.
"Что же со мной делается? Я даже не умею быть беспутной?.. Еще того хуже: аморальной?.. Какое падение! Красней! Красней!.. Ну нет, довольно!
Я и так достаточно румяная... Конечно, не такая, как бедная Сильвия, с ее порывами сирокко, от которых лоб, щеки, шея становятся похожи на поле, усеянное маками... Какое у меня наглое здоровье!"
Действительно, она отнюдь не вызывала жалости. Между тем ее положение было не из блестящих. Она едва-едва сводила концы с концами, и денег у нее было ровно столько, чтобы, в случае нужды, продержаться несколько недель при самой строгой экономии; она ела раз в день, да и то в дешевых ресторанах, где пища не обильна и не изысканна. Но, бог знает почему, ей все шло впрок.
От Аннеты не укрылось, что ее здоровый вид является предметом строгого изучения со стороны сына всякий раз, как они встречаются. Он готов был потребовать у нее объяснений по поводу ее возмутительного спокойствия. Марк называл это безразличием, ибо ничто и никто не могли бы вызвать в ней прилив страсти. Ее выпуклые и чуть близорукие глаза на все смотрели и все видели, но ни на чью сторону не становились. Однако она не теряла ничего из того, что видела; она бережно хранила все в памяти.
Придет день, она подведет итог... Но только не сегодня! Она шла своей дорогой и впитывала в себя все, что видела. И продолжала наслаждаться странным, не прекращавшимся душевным подъемом, – надолго ли его хватит – которого она не искала и не старалась удержать. Самое удивительное было не то, что она наслаждалась им несколько месяцев или несколько лет – с тех пор как кончилась судорожная напряженность военного времени и пришло облегчение, – такова была эпоха, естественное торжество жизни над смертью. Но эпоха изжила это торжество в какие-нибудь два-три года, оно сгорело, как солома, и овин сгорел вместе с соломой, – от него остались четыре стенки, да и те были расшатаны, их сотрясал ветер и мочил дождь.
А вот у Аннеты овин уцелел: он был сделан крепко, из хорошей глины, и она сложила там все свое добро. Там хватало места и для урожая прошлогоднего и для урожая будущего года. Это-то и было удивительно: у нее подъем продолжался и тогда, когда всех охватила усталость или отвращение, как после опиума. Значит, она была из другого теста?
Да нет же! Она всем была обязана своей неистощимой энергии и поддерживала себя постоянной деятельностью. Никаких наркотиков! Действовать!..
(Но не является ли это тоже своего рода наркотиком?) Успешна была ее деятельность или неуспешна, это уже не столь существенно. И в том и в другом случае Аннета бывала в выигрыше. На каждом шагу, хотя бы и ложном, она схватывала все новые и новые частицы вселенной, бившейся в судорогах смерти – обновления, – частицы травянистого луга, удобряемого гниением мира.
Но почему же миллионы более молодых и более живых, чем она, не испытывали такого наслаждения? Почему этих молодых людей охватывало, напротив, головокружение, ужас, доходящие до галлюцинаций ярость и страх? В зелени луга они видели только зелень трупную. Но разве Аннета ее не видела?.. Видела. Она видела и то, что лежало на поверхности, и то, что было скрыто. Что тут особенного? Это в порядке вещей! Много смерти – много жизни. И одна – дочь другой... Значит, Аннета больше не осуждала войну? Она всегда была готова возобновить борьбу против нее и против презренных людей, для которых ужасы войны были игрой фанатизма, тщеславия и барыша... Но как уживалось все это в Аннете? Не требуйте у нее объяснений! Про то знает ее природа, глубокая, слепая и надежная женская природа, подчиненная тем же великим законам, что и все природы. Но рассудок Аннеты не знает этого, если не считать некоторых проблесков сознания, которые недавно ее озарили, только проблески эти были слишком кратки. И она не поняла их ясного смысла... <Читатель найдет в следующем томе мелькавшие в сознании Аннеты воспоминания о ее возвращении из Румынии через Италию и о встречах, которые у нес там были. Сейчас не время о них рассказывать: их следы как будто бы стерлись. Образы дремлют. Но они пробудятся. – Р. Р.> Да, вместе со всей природой она страстно борется против всего, что убивает. Но, как и вся природа, она пылает страстью ко всему, что живет, она пылает всем, что живет, всеми огнями новой жизни, которые поднимаются над полями смерти. И ее глаза, ее руки, ее движения, все естественное течение ее жизни просто-напросто воплощают ту гармонию жизни и смерти, законов которой она не постигает.
Она любит видеть и любит жить. И в жизни этого нового луга, расцветающего на крови мертвых ("А я-то сама разве не умерла? И вот я воскресаю... "), ее интересует все, даже самое худшее. Аппетит у бургундки изрядный. И она непривередлива. Честная и прямая, она, разумеется, чувствует под собой твердую почву. Это свойственно всякому здоровому человеку с хорошей закваской. Но это не дает права требовать от других:
«Будь таким, как я хочу!» – "Эх, друг мой, уж будь таким, каким можешь!
Я сумею приноровиться... Я, конечно, не говорю, что не буду над тобой смеяться... Это одна из радостей жизни... Но пусть это стесняет тебя не больше, чем ты стесняешь меня! Ну-ка, покажись, какой ты в естественном виде, голый или одетый! Будь красив, будь некрасив, – все равно ты меня интересуешь. Не все виды пищи одинаково вкусны. Но все, что меня питает, я принимаю. Я голодна..."