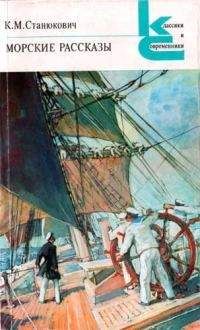— Из-за чего же вышло, что мичмана под арест, Иваныч? — задал вопрос Снетков, необыкновенно заинтересованный продолжением рассказа.
— Ишь пристал!.. Дай покурить… Обскажу все в подробности…
— Ты это, Дудкин, насчет чего обсказываешь? — спросил, подходя, боцман.
— Насчет мичмана Кудрявцева. На «Отважном» в сорок восьмом году служил…
— Как не помнить… Чудной мичман был. Вроде быдто умом тронутый…
— Что он тебе зубов не чистил и шкуры не спустил, так он, по твоему рассудку, и тронутый?.. Давно ли ты стал так полагать, Захарыч? Небось как в боцманы вышел? — насмешливо и сердито прибавил Дудкин.
— А ты полегче… Нонче вы все быдто тронутые стали, идолы, как прежней строгости на вас нет…
— А тебе, видно, жалко ее?.. Мало тебе всыпано было линьков?.. Или память отшибло?
И Дудкин сунул в карман штанов трубку и пошел к орудию.
Боцман пустил вслед ленивое ругательство.
Через минуту рассказчик и слушатели уселись на прежние места и Дудкин продолжал.
— А вышло, братцы, такое дело. Стоял это Леванид Николаич подвахтенным с восьми до полудня, как капитан, после перемены марселей, вскрикнул двух грот-марсовых на бак, на шлифовку, значит. На «Отважном» отшлифовывали безо всякой жалости. И командир, прямо сказать, живодер был. Ему и кличка была дадена: «Живодер». И тую ж минуту зовет к себе мичмана. Прибежал. Руку под козырек. А капитан ему препоручение: «Спустить этим двум подлецам шкуры. По сту линьков! И имейте, говорит, присмотр, чтобы форменно драли… Потачки не извольте, говорит, допускать». Выслушал этто Леванид Николаич и белее сорочки стал. Я в те поры наверху был и видел, как он стоит ни жив ни мертв перед капитаном и как пальцы его у козырька дрожат…
— Испугался, значит, капитана? — небрежно кинул один из слушателей, белобрысый, полнотелый матрос из кантонистов.
— Ты не перебивай, а слушай, и тогда поймешь — испугался ли мичман капитана или препоручения! — строго заметил Дудкин.
И затем продолжал:
— А капитан был нравный и скорый. И видит, что мичман стоит — взбесился: «Что вы, кричит, как статуй, стоите! Или не слышали приказания? Идите, и чтобы исполнить сей же секунд!» А мичман ему на это громко так отчекрыжил: «Покорно, говорит, прошу увольнить меня от такого препоручения. Я его исполнить никак не согласен!»
— Ишь ты! — вырвалось у чернявого матросика радостное восклицание, и он, взволнованный и умиленный, впился своими большими черными глазами в лицо Дудкина.
— Все, братцы, так и ахнули. И сам Живодер вытаращил глаза — не ждал, значит, такой отчаянности. А очнувшись, заревел, ровно зарезанный бык, что уконопатит он мичмана под суд за непокорность, и тую ж минуту велел под арест, чтобы часового у каюты с ружьем… Пять ден отсидел мичман. Только меня к ему и допускали… Я и кушанье носил ему из кают-компании… А он на отсидке все книжки читал и вовсе был спокойный. И как я ему сказал, что все матросы очень даже его жалеют, обрадовался. «Пущай, говорит, отдадут меня под суд и делают что хотят, а я, говорит, не могу вроде быдто палачом себя понимать. И то, говорит, одна тоска слышать, как люди под линьками кричат, и нет силы воли им помочь, а чтобы еще смотреть… не принимает, говорит, этого моя душа…» Слушаю я это, братцы, и быдто лестно. Потому такие люди от отчаянности тебя спасают. В правду божию заставляют верить. Вот в чем причина. И все матросы после этого случая стали еще преверженней к мичману и уж как старались, когда он стоял подвахтенным, чтобы на баке все было в полной исправке, чтобы Живодер не мог придраться… Берегли мичмана.
— За такого куда вгодно! — восторженно заметил Снетков.
— А судом судили? — раздался чей-то голос.
— То-то нет, хучь капитан и подал лепорт на мичмана главному командиру, как мы вернулись в Кронштадт из клейсерства по Балтинскому морю. А разговор был с главным командиром! Вскорости как мы с мичманом, по окончании кампании, перебрались на берег, вечером — кульер. «Требует, мол, завтра в восемь утра главный командир!» Я, как следует, разбудил утром пораньше Леванида Николаича, напоил чаем, обрядил в мундир и гайда за извозчиком. Уехал, а я жду в тревоге. Думаю, какая будет ему разделка… Потому ежели судить мичмана, то была б ему крышка, вроде как отцу. Тогда за непокорность и офицеров засуживали… За такие дела не давали пощады. Очень большая была строгость! Хорошо. Жду я мичмана, а он вскоре и вернулся. «Не бойся за меня, Егор… ничего мне за капитана не будет!» Говорит этто, а сам вовсе невеселый, и, в раздумчивости быдто, прибавил: «Облестила меня, старая шельма!» И как амуницию свою всю снял и переоделся, так и обсказал мне в подробности, какой лукавый разговор имел с им главный командир… И что бы вы думали? Он не только не оконфузил Леванида Николаича, как полагалось, криком, а позвал в кабинет, запер двери и, честь честью, велел садиться… Даром что ему на том свете давно паек шел и высох вроде быдто египетской муми, а беда, какой шельмоватый был! Умел, как и с кем… Кого в страх вогнать, кого облестить. Понял, что Леванида Николаича страхом не обескуражишь, и по своей шельмоватости перво-наперво похвалил: «Очень, говорит, на редкость ваше чувствительное сердце. Я, говорит, сам чувствительный. Но как есть, говорит, ваш начальник, должен сказать, что вы никак не смели ослушаться капитанского приказания. И ежели, говорит, дать лепорту полный ход, то будут вас судить по всей строгости флотских законов и присудят матросскую куртку, 1 я, говорит, не хочу вас губить и огорчать государя императора, как он узнает, какие на флоте есть непокорные офицеры!» Понимаете, братцы, какую загвоздку пустил старый дьявол?
— В чем загвоздка-то, Иваныч? — спросил молодой чернявый матросик, не понявший ее.
— А в том, Вась, что адмирал боялся, что до императора Николая Павловича дойдет, как на «Отважном» закатывали царских матросов… И могла выйти разборка. «Почему, мол, порют сверх положения?» Небось Леванид Николаич показал бы на суде, что и по положению-то матросу чистая каторга, а ежели, как на «Отважном», сверх положения да по триста линьков всыпали и двое матросиков в госпитале померли на фугой день после порки, то выходит быдто вроде живодерни, и жизнь наша мука-мученская! На что я здоровый, братцы, а как один старший офицер на «Кобчике» закатил мне спьяну, подлец, такую же плепорцию, так я только через два месяца на поправку пошел. Фершал в госпитале тогда сказывал, что нутренность у меня, братцы, крепкая, а другой не вынес бы… От чахотки бы помер, говорит. Так вот, по той самой причине, чтобы все было шито да крыто, старый дьявол и прикинулся, быдто жалеет мичмана… Не очень-то он был жалостливый, а тоже: «чувствительный»! В Кронштадте помнили, какой он был капитаном чувствительный. Недаром душегубом звали! И как слукавил, старый хрыч, эту самую загвоздку, он и обсказывает мичману, что лучше, мол, все дело прикончить в секрете. «Я, говорит, велю командиру взять лепорт обратно, а вы, говорит, сходите к нему и повинитесь хучь для виду… Уважьте, говорит, старого адмирала; а я, говорит, так и быть, попрошу капитана, чтобы вас не назначали наказывать матросиков… А вы все-таки, говорит, привыкайте… Для службы, говорит, надо стараться, а когда и отодрать матросика… От этого его не убудет, и ему же на пользу…» Таким образом он и облестил Леванида Николаича.
Дудкин на минуту примолк.
— Повинился мичман перед Живодером? — спросил кто-то.
— Небось матросская куртка не шуба. Поехал на другой день! Тем дело и кончилось, а для Леванида Николаича только началось!.. Заскучал он с той поры! — значительно проговорил Дудкин. — От своей совести заскучал. А главная причина: совести ему было отпущено много, а характеру мало. Он и терзался, что ходил к капитану вроде быдто виниться и что за труса могут его считать. «Слабый я есть человек, Егор!» Скажет он это мне, махнет в отчаянности рукой, да и айда в клуб. А вернется поздно домой — выпимши… А раньше в рот не брал, вовсе брезговал. И как-то я даже доложил ему, что это нехорошо. В те поры я еще не занимался вином!.. — счел долгом пояснить Дудкин. — «Верно, Егор, нехорошо», — говорит. «Не по вашему званию, Леванид Николаич», — докладываю. Молчит, стыдно, значит… Но только не сердится. Понимал, что я из приверженности к нему. Бывало, целую неделю дома сидит — обед я ему готовил — и книжки читает. Вижу, скучит. Один да один. «Вы, Леванид Николаич, в Питер бы прокатились!» — скажешь ему. «И там, Егор, одно и то же». — «У знакомых, говорю, побывали бы!» — «Нет, говорит, у меня таких знакомых, чтобы меня настоящим человеком сделали, вроде отца. Небось он с волками жил, а по-волчьи не выл!»
— Поди ж ты! — воскликнул чернявый матросик.
В этом невольном восклицании были и изумление, и любовь, и жалость к мичману.
— Таким родом дожили мы с Леванидом Николаичем до лета. А летом опять пошли в плавание на «Отважном». И опять моего Леванида Николаича стали стыдить в кают-компании… Он огрызался, спорил. Можно, мол, быть форменным офицером без всякого боя; а после и спорить бросил… Ну вас! И тогда стали чураться от его. «Что, мол, ты, такой-сякой, много о себе полагаешь и нами брезгуешь!» И все лето мой мичман скучал. Съедет на берег один и на фрегате один. Только со мной, бывало, и лясничает… В охоту с кем-нибудь поговорить… А службу старательно сполнял, и лестно ему было, чтобы его почитали за форменного офицера. И флотскую часть очень даже любил, из-за эстого самого он и на флоте служил. И море любил, не боялся его. Бывало, в свежую погоду, возьмет шлюпку и айда под парусами кататься. Лихо управлялся! Против его никто на «Отважном» не мог управиться. А катер, за коим он доглядывал, был игрушкой и на гонках всегда призы брал. Глаз у него был зоркий, что у ястребка. И до всего Леванид Николаич доходил. Первый, можно сказать, по усердию был… одно слово, лихой и отчаянный мичман! Из себя молодчик, небольшой, сухощавенький, аккуратный такой, кудрявый и пригожий, лестно было на него глядеть… Бывало, придет на бак и матросиков обнадежит ласковым словом… И быдто легче станет на нашей живодерне. А уж старался как по службе! Из кожи лез, чтобы доказать капитану, какой он есть офицер, и чтобы ему дали править вахтой… А Живодер наш — надо правду сказать — был дока по морской части и форменный капитан, так отличиться перед им, значит, и лестно Леваниду Николаичу… Однако капитан только обескураживал мичмана. Не прощал ему, что главный командир не дал ходу его лепорту, никакого взыску не сделал и непокорного мичмана оставил на фрегате. Да еще велел, сказывали, не огорчать высших начальников, не драть сверх положения до чахотки. И знал Живодер, чем обескуражить мичмана! Понимал, собака, как он обидчист по флотской части.